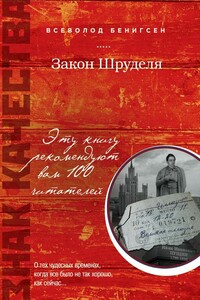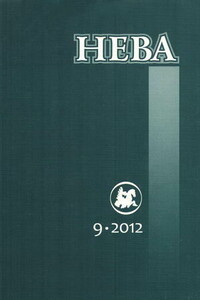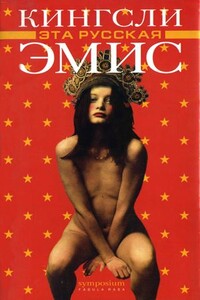ГенАцид | страница 51
— А фамилия какая? — спросил еще кто-то.
— Да че вы пристали? Не хотите, не буду.
Тут же все начали ее упрашивать. Она долго ломалась, но потом опрокинула еще сто грамм и начала. Но как только она дошла до второй строфы со словами: «Возьми, летун! Пронзи, летун! Могильник тлинный, живой ползун!», один из слушателей не удержался, прикрыл ладонью рот, прыснул и заржал. Следом повалились от хохота и все остальные.
— Ползун! — задыхаясь от смеха, кричал кто-то, падая головой на стол. — Пронзи, говорит, меня, летун! Агафья, уморила! Могильник, говорит, у тебя длинный, ты, говорит, меня пронзи!
— Тлинный! — рассердилась Агафья.
— Да один хрен! — визжал от смеха другой. — Главное, чтоб пронзил!
— Э-эх! Кобели несчастные! — махнула на них рукой Агафья. — Полторы извилины, да и те только в одном направлении шевелятся.
После этого случая Агафья обиделась, в гости больше никого не звала и стихи не читала. Но и без нее было куда пойти.
Пару раз на такие читки приходил и Черепицын. И не потому, что хотел принять участие в «декламациях», ибо со школы не переваривал литературу, а потому что хотел выпить в мужской компании. Но мужские компании теперь были, как на подбор, все с литературным уклоном, и этого он вынести не мог. Свой текст он не учил, полагаясь на последнюю неделю, как беспечный студент полагается на последнюю ночь перед экзаменом. Однажды, предварительно приняв на грудь, он все ж таки попробовал. Но сконцентрироваться, как ни пытался, не мог. Слова и буквы занимались каким-то непотребным акробатическим рок-н-роллом, прыгали, кривлялись и никак не хотели становиться в положенный им строй. Одну и ту же строчку Черепицын повторял по несколько раз, но, отвернувшись, тут же забывал, как она звучит. В итоге сержант плюнул, а теперь в одиночку страдал от литературного безумия большеущерцев и все чаще прикладывался к бутылке. Иногда он, впрочем, брал к себе в компанию заключенного Поребрикова. Но тот уже готовился к освобождению и пил неохотно, так как боялся, увлекшись, сорваться в первый же день после выхода и, не дай бог, снова позвонить на проходную молокозавода с угрозой о теракте. Мотать два срока подряд ему ужасно не хотелось. Тем более он был наслышан об оживлении деревенской жизни в связи с указом и отчаянно рвался на волю.
Так подошла к концу вторая неделя из трех, отпущенных до приезда проверочной комиссии. Атмосфера в деревне окончательно приобрела литературно-творческий оттенок. Воздух наполнился поэтическим безумием, а большеущерцы этим воздухом дышали. Иной раз казалось, что от такой литературной насыщенности, не ровен час, пойдут бродить по деревне тени потревоженных писателей. И верно — в один из выходных дядя Миша принялся уверять, что «не далее как вчера» видел на окраине деревни бесцельно слоняющегося Толстого. На вопрос, с чего он взял, что это Толстой, дядя Миша уклончиво отвечал, что, мол, такое объяснить нельзя, такое только знаешь и все тут. Потом, правда, выяснилось, что это был отец Таньки, Михаил, который искал подходящую елку для Нового года и которого подслеповатый дядя Миша просто не признал с расстояния, но легенда уже родилась, а большеущерцы не собирались идти на поводу у каких-то там фактов.