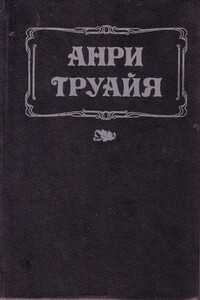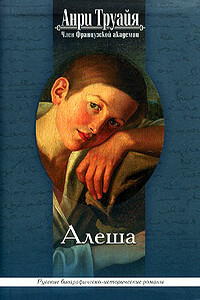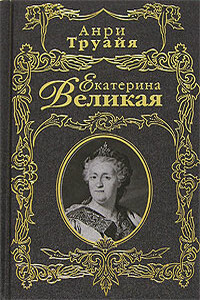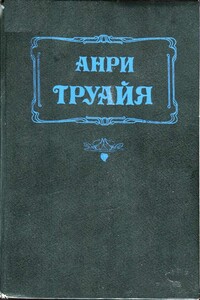Иван Грозный | страница 24
В последней части книги протопоп Сильвестр призывает своего сына Анфима соблюдать христианские добродетели. Чтобы молодой человек, став главой семьи, воздерживался от пития перед вечерней, почаще призывал священника, служил молебны у себя дома, не впадал в крайность, раздавая милостыню, искренне любил ближнего, ни на кого не держал зла, слушался царя и боялся Бога: «Когда путешествуешь, делись пищей со встречными... Давай им пить. Если будешь вести себя так, тебя не обманут и не убьют в пути... Если сопровождающие тебя ссорятся, выбрани их. Если дело принимает серьезный оборот, ударь своего слугу, даже если он прав!»
Эти советы, вышедшие из-под поучающего пера, обличают в своем авторе (или авторах) странную смесь религиозности и целесообразности, жестокости и милосердия. Строгость мышления и преданность Церкви подчеркивают постоянные отсылки к Библии. Правила хорошего тона и молитвенник, поваренная книга и Евангелие, огородный календарь и трактат о соблюдении приличий, святое и мирское неразделимы здесь, как вода и вино в сосуде. Согласно этому полуязыческому, полухристианскому катехизису, Бог любит бережливость, процветание, благополучие, трудолюбие, быстрое правосудие и подчинение слуги хозяину, жены – мужу, сына – отцу. Основа общества – семья, глава которой олицетворяет прочность и излучает свет. Он источник и итог всего. И в своем клане он равнозначен царю в его владениях.
В таком виде «Домострой» долго еще прослужит незыблемым законом обыденной жизни России. Иван очень доволен. Но хочет, чтобы тот же добрый порядок был установлен и в общественной жизни. Со своими советниками он садится за написание Судебника, который должен заменить Судебник его деда Ивана III от 1497 года. Новый свод законов не отменяет его положений, но приводит их в соответствие с требованиями времени. До сих пор закон, действующий в Москве, мог игнорироваться в Новгороде или Пскове, где были свои обычаи. Иван в своем стремлении к централизации считает подобное недопустимым. Несмотря на крайнюю молодость – ему должно исполниться двадцать, он требует, чтобы на всех территориях, находящихся под его властью, применялись одни и те же законы. Он восстанавливает на местах старинную судебную систему и велит заседать в судах не только боярам, но и выбранным представителям общин. Эти суды состоят из трех уровней, высший из которых – в Москве. Наказания за мелкие уголовные преступления сводятся к ударам плетью. Повторный проступок, предательство, богохульство, убийство, разбой, поджоги – караются смертью. Случается, что судья ссылается на свидетелей, обосновывая приговор. Но приговоренный имеет право не согласиться с ними и вызвать на поединок. На этот Божий суд обвинитель и обвиняемый могут не являться самолично, а прислать себе замену. Использовать лук и стрелы запрещено. Закон гласит, что орудием может быть бердыш, копье и кинжал. В качестве защиты можно использовать кольчугу и щит. Свидетельство человека благородного происхождения более весомо, чем шестерых – низкого. Порой, чтобы обличить виновного, применяют пытки. Вознаграждение судье и писцу установлено строго. Судебный кодекс осуждает взяточничество. Но оно процветает на всех уровнях. Невозможно выиграть дело, не «позолотив» нужную руку. Обычай требует, чтобы перед началом процесса стороны положили подношения перед образами святых – «на свечи». А на Пасху все судьи получают крашеные яйца, которые сопровождают иногда довольно значительные денежные суммы. Немец Генрих фон Штаден, переводчик посольского приказа, пишет в своих воспоминаниях: «В каждой канцелярии или зале суда есть у дверей два стражника, которые открывают только тем, кто дает деньги... Правосудие в распоряжении богатых; у кого больше денег – прав или невиновен... Если человек ограбил, убил или совершил воровство, но укрылся со своими деньгами в монастыре, он может чувствовать себя спокойно, как на небесах».