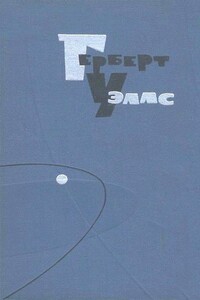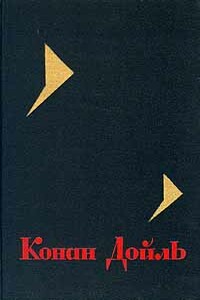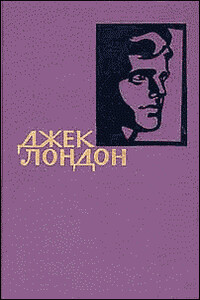Достоевский | страница 30
Смешной уверен: мир, спасение мира, теперь зависит от него. Это-то и придает ему силы («и хоть бы на тысячу лет»). Непоколебимое и мужественнейшее убеждение Достоевского: не только и не столько человек зависит от мира, сколько мир от человека.
«Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «один в поле не воин» и пр. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и пр., и пр. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра».
«Знаете ли вы, сколь силен может быть один человек?»
Но сколько раз его самого, Достоевского, именно за все это объявляли — буквально, буквально! и публично — смешным, больным, юродивым и, повышая в чине, сумасшедшим.
Когда Микеланджело изобразил себя в «Страшном суде», это было настоящее открытие. Он изобразил себя не так, как многие делали это до него и после: где-нибудь в углу, за спинами, в стороне, с ручным мольбертом (именно сторонним). Нет, он здесь в виде собственной выпотрошенной кожи, шкуры, которую, как ветошку, держит в левой руке фарисей-кардинал, его заклятый враг. (Не так ли хотел выпотрошить Достоевского его «меценат» Победоносцев?)... Микеланджело осмелился представить себя (автор гениального творения!) в качестве персонажа мировой трагедии, трагического персонажа мировой истории, и не здесь ли, не в его ли именно фигуре и находится истинный — внутренний, не видный сразу — духовно-нравственный, художественный центр всей картины? А не будь его?..
Не решился ли и Достоевский на такое? Не проступают ли, не сверкают ли в «Сне» черты и его духовного облика? Не является ли «Сон» опытом и его духовной исповеди, духовной автобиографии, конечно, художественно преображенной. Именно преображенной: не о тождестве я говорю, а лишь о точках, моментах, штрихах пронзительного сходства. И не эти ли могучие, но невидимые сразу сила, воля, судьба художника и являются в конечном счете истинным духовно-нравственным, художественным центром и этой картины, что и объясняет ту небывалую творческую свободу при небывалой широте охвата и концентрации, «тесноте» идей, чувств, образов?
В России до него лишь Пушкин (конечно, и здесь Пушкин) совершил подобное в «Моцарте и Сальери». Эта «маленькая трагедия» — может быть, самое полное художественное слово Пушкина и о себе: пушкинский Моцарт, солнечный и трагический, это же и есть еще духовный автопортрет самого Пушкина.