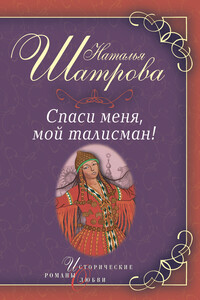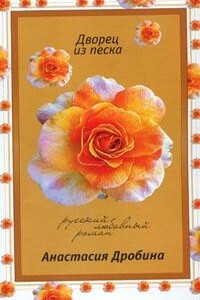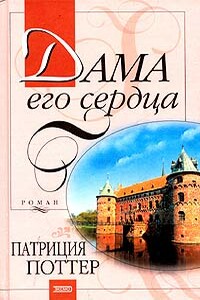Барыня уходит в табор | страница 66
В его голосе было столько изумления и негодования, что цыгане рассмеялись. Яков Васильевич подтолкнул к графу Настю.
– Вот она – Настька. Моя единственная.
Настя улыбнулась. Подошла, поцеловала графа в плечо. Тот в ответ чмокнул ее в щеку, восхищенно взглянул в лицо:
– Яшка, но ведь она красавица… Следи, чертов сын, не то украдут.
– Как уследишь? – усмехнулся тот. – За полком солдат можно уследить, а за девкой…
– Господи, и эта поговорка… Вы же и раньше всегда так говорили! Я не забыл! – всплеснул руками граф. Он был сильно возбужден, и Якову Васильевичу почти насильно пришлось усадить его в кресло.
– Машенька… – тут же забеспокоился Аполлон Георгиевич, и Марья Васильевна торопливо подошла к нему. Кто-то из офицеров придвинул ей пуф. Граф тихо заговорил: – Ты уж не смотри на меня, Маша. Ничего прежнего не осталось. Старая развалина – и только…
– Не грешите, Аполлон Георгиевич, – глядя в сторону, глухо сказала Марья Васильевна. – Вы бы знали, сколько раз я вас вспоминала. Все думала, думала… Уж и не в радость те воспоминания, а – не могла забыть.
Граф молчал. Марья Васильевна осторожно взяла его руку, прижалась к ней щекой. Высохшие дорожки слез еще были видны на ее лице.
– Яшка, хоть что-нибудь… – шепотом попросила она. Яков Васильевич, с тревогой наблюдавший за сестрой, быстро отошел к хору, взял гитару, взмахнул ей:
– «Распошел»! Ну!
Цыгане опомнились мгновенно – и хор взял с места сильной, дружной волной. Запевал Митро, напрочь забывший о своей простуде, и его густой бас тут же заполнил комнату. Илья вел вторую партию вместе с Конаковыми. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Он стоял с краю и не мог отвести глаз от застывшего в кресле старика-графа и прильнувшей к его руке Марьи Васильевны. Бледные, сморщенные губы графа шевелились, он тихо повторял вслед за цыганами:
– «Эх, черные очи да белая грудь»… «До самой зари мне покоя не дадут»… Да, все так… Все, как было… Машенька, ну а как же…
Но тут вступил хор, и ни вопроса графа, ни ответа Марьи Васильевны Илья не услышал. Из первого ряда поднялась Стешка, вскинула голову, крыльями развела в стороны руки, придерживая за концы узорный полушалок, – и поплыла с опущенными ресницами, чуть волнуя подол платья, едва поводя плечами в такт:
– Умер он… – донесся до Ильи шепот Марьи Васильевны.
– Почему же ты мне не сказала? Совести у тебя, разбойница, нет! Я ведь ничего не знал! Хоть окрестить успели?