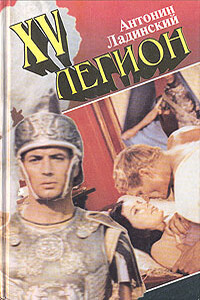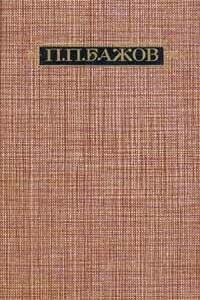Ворова мать | страница 2
После полудня она охмелела от запаха картофельного цвета, от ветерков, от пчелиного звона, пожалела, что вишни отошли, насобирала палых яблок на пирог, зарезала цыпленка, устряпалась и до вечера сидела на крылечке.
При каждом шорохе спешила на огород; на тарахтенье телег выбегала за ворота и глядела на дорогу, а когда в хлебах по-ночному затрюкали перепелки и золотом вызернилось небо, затосковала:
«Не придет, зря пичуга билась в окошко».
Но дверь на ночь она не заперла и легла в одежде.
Одолеваемая сном, ушла в заботы о завтрашнем дне, а чуть оторвалась от них и сомкнула веки, в четырехугольнике двери вдруг вырос Никита с вещами в руках и спросил:
— Жива, мать?
— Жива, жива! — вскочила Федоровна.
Никита совсем чужой-без усов, без бороды, только глаза родные, но, кабы не пичугина весть, она не узнала бы их в полутьме. С гудящим сердцем шагнула к порогу и, касаясь губ, жестких щек, почуяла-это он, сын. С его теплом на лице и руках заметалась по избе, забормотала:
— Огня бы, да это… Ахти мне, керосину-то нету у нас.
Лучиной вот разве…
— Не надо, мать. У меня есть. Только это… завесь окна, а то, знаешь, увидят…
От этих слов в грудь Федоровны вполз холодок. Она завесила окна и замерла. Никита закрыл дверь, повозился у порога в вещах, поставил зажженную свечу в накапанную на стол слюдку стеарина и глянул на мать:
— Все такая же? Не-эт, сдала, крепче поседела. Не суетись, сиди. Плохо, знать, было?
— Мне? Мне ладно. Покормить тебя надо, — певуче отозвалась она и мотнулась к печке. — Наготовила я, знала, что будешь…
Никита испуганно выпрямился и шагнул к ней:
— Как знала? Кто сказал?
Его глаза и голос ужаснули Федоровну.
— Птичка, птичка весть подала, — торопливо успокоила она его.
— Какая птичка? Ты толком говори.
— Да птичка. В окошко, под утро нынче стучала…
Никита вспомнил деревенскую примету, сел на скамью, заиграл носком пыльного сапога, а когда мать подала пирог и жареное, оживился:
— О-о, ай да мать! Целая буржуйка! Фу ты… Вот так чудеса! Впору памятник твоей птичке ставить.
Федоровне было зябко: окна завешены, у двери корзина, чемодан, узел. Что в них? Откуда? Ее беспокойство передалось Никите.
— Да, мать, дела, — туманно сказал он, отодвигая чашки. — Не говори никому, что явился. Дремлется, не спал я долго.
Он взял с чемодана узел и ушел на сарай, а она осталась с тлевшим под сердцем угольком-не будет желанного, с болью приподняла с пустой половины стола скатерть, накрыла ею посуду от мух, покрестилась: