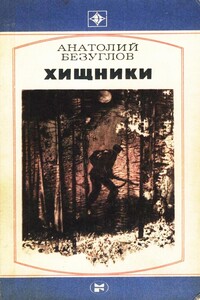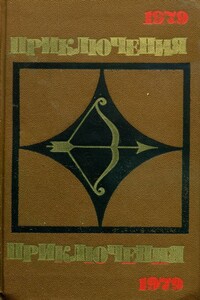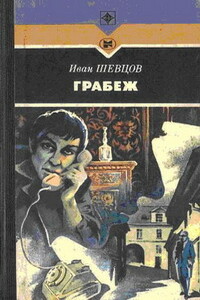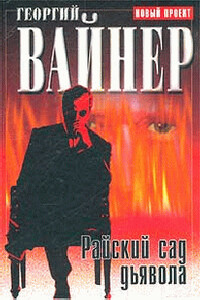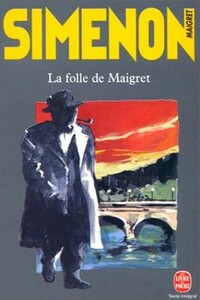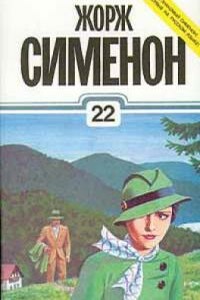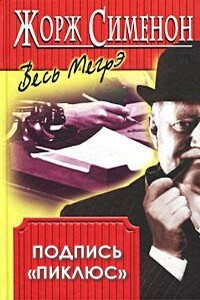Гонки по вертикали | страница 102
— Мне даже картинки эти нравятся.
— Картинки серьезные. Даже улыбнуться совестно.
— Только не вздумайте сказать, что вам нравится Шагал, — погрозила пальцем Мила.
— Я его вещей не видел, — сказал я неуверенно.
Она посмотрела мне внимательно в лицо и улыбнулась:
— Слава Богу. А то все интеллигентные молодые люди сейчас обязательно беседуют с девушками о Камю, Шагале и Антониони. Малый искусствоведческий набор.
— А вам не нравится то, что они делают?
— Почему? Нравится. Я не люблю, когда об этом пространно рассуждают. И вообще я больше всего люблю сказки.
Тут я посмотрел на нее во все глаза. Она серьезно сказала:
— В сказках добро всегда сильнее мудрости.
— А разве это соперничающие силы?
Мила задумчиво провела ладонью по лицу:
— Не знаю. Человеческая мудрость сильно выросла. А доброта?
— Я думаю, рост культуры смягчает и нравы.
— Возможно, — кивнула Мила и спросила неожиданно: — Как вы думаете, сколько людей было замучено в застенках инквизиции? Учтите, что длилась она четыре века.
— Миллион? — спросил я наугад. — Или два?
Мила покачала головой:
— Тридцать две тысячи человек. За четыреста с лишним лет. А в Освенциме за четыре года фашисты уничтожили более четырех миллионов человек. А потом атомная бомба в одно мгновение испепелила сто тысяч человек в Хиросиме.
— Люда, Людочка, Мила! Это же не то совсем! Ведь люди не могут и не должны забыть свою накопленную в муках мудрость.
— Так и я не об этом. С развитием мудрости все обстоит прекрасно. Вот с добром сильные перебои. А мудрость без добра обязательно вырастает в злодейство.
— Но ведь любому искусству противно злодейство? — сказал я негромко, возвращая разговор к не понятому мной началу.
— Конечно, — легко согласилась Мила. — Только новое искусство острее чувствует неравновесие добра и мудрости. Поэтому оно тяготеет к разрушению. А разрушение не может создать новой сказки.
В это время в оркестре, видимо, перестали настраивать инструменты, потому что музыканты сделали перерыв. Официант принес вино и закуски, и я опять обрадовался этому — я плохо понимал, о чем говорит Мила, что-то меня не устраивало в ее рассуждениях, но возражения не приходили в голову, и от этого я чувствовал себя совершенным дураком. Я разлил в бокалы вино и сказал:
— Милочка, давайте выпьем за «самых-самых» архивистов.
— Таких не бывает, — усмехнулась Мила.
— Да, не бывает. Потому что они все — «самые-самые». Пройдут годы, много-много лет, придут на земле в равновесие добро и мудрость, и тогда обязательно найдутся люди, и будет их много, таких людей, которые захотят узнать, как же все это происходило. И тогда выяснится, что вы сохранили для них законсервированное время, уберегли память обо всех событиях и обо всех людях, живших в трудные времена соревнования добра с мудростью, потому что и на ваших папках, наверное, стоят печати «Хранить вечно!», а вечность — это, видимо, очень долго.