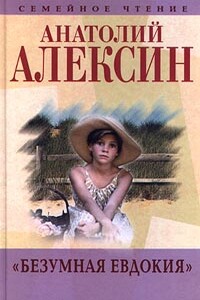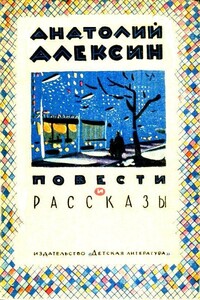Не родись красивой… | страница 62
Он пригласил Машу побеседовать в комнате отдыха. И прошел туда первым, так как она, хоть и была женщиной, но в первых людях страны не значилась.
Комната приспособилась для отдыха обстоятельного и не обязательно наедине с самим собою: привольная тахта; горка красного дерева — самонадеянная, перегруженная хрусталем, напитками и вазами с фруктами. Все здесь знало себе цену…
«Это тебе не ваза с конфетами в кабинете у Розы! — подумала Маша. — И все для него? Так убедительно опровергающего свои портреты?..» На том, что когда-то сползал краской ей на лицо, четвертый выглядел бравым политическим капитаном, по-волевому провидящим рифы и айсберги, кои не опасны его кораблю, и заветные берега, к которым он, без сомнения, приведет. В реальности же лицо было вяло-барственным, а необъятный на портрете лоб до такой степени лишился простора, что на нем одинокой бороздкой уместилась только одна-единственная морщинка.
— Присаживайтесь… — Он указал на тахту жестом, не предвидящим возражений.
Неверно произносящего какие-либо слова непременно тянет на них, как преступника на место его преступления.
— Я еще раз константирую, что профессор — во всем профессор. — Для него это был почти афоризм. Высокомерие чуть-чуть уже растворялось в мужской заинтересованности. — Распоряжайтесь здесь, так сказать, как хозяйка. Коньячку? Это французский «Наполеон». Так сказать, Бонапарт! — То была шутка.
Маша подумала, что призывал он поклоняться Марксу и Энгельсу, а сам поклонялся «Наполеону». «Ну и пусть… Зачем я об этом думаю? А сама жду помощи от его чина!» — укоряла она себя.
— Или вам «Камю»? Тоже французский. Или «Бордо»? Опять Франция!
Куда девался патриотизм четвертого человека? «А у Николая Николаевича коньяк был армянский. Иерархия, иерархия…» — вновь подумала Маша и вновь осудила себя: «Какое это имеет значение в сравнении с моей целью?!»
Для начала он обольщал ее на уровне своих продуктовых и коньячных возможностей. Об Алексее Борисовиче промолвил лишь одну фразу, да и то в связи с Машиной внешностью. Тогда о муже заговорила она… С явным огорчением он изобразил на лице деловое внимание. Игнорируя это, Маша принялась бушевать по поводу парамошинской клеветы. Четвертый человек стал что-то записывать, хотя бушевать при нем было не принято. Но тут уж Парамошина она не щадила, а мужа защищала с той яростью, с какой защищают ребенка. Кроме наигранной деловитости, хозяин кабинета никаких ответных чувств по этому поводу не выражал. Оживился он, лишь когда Маша упомянула о мнимой «влюбленности» замминистра как о поводе для обвинения Алексея Борисовича в ревности.