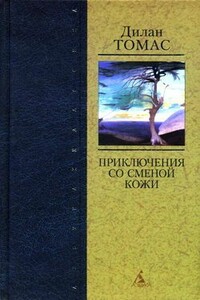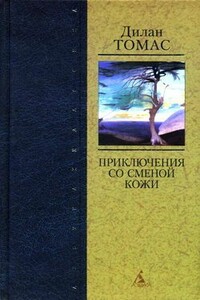Портрет художника в щенячестве | страница 27
– Может, он драку описывает, – предположил я.
– Или рассказывает мистеру Моррису про калек, – сказал Дэн. – Ты на рояле умеешь?
– Аккорды умею, а мелодию – нет, – сказал я. Мы стали играть в четыре руки.
– Ну и чья же это соната?
Мы создали доктора Перси – величайшего в мире автора пьес для исполнения в четыре руки, и я был Пол Америка, пианист, а Дэн был Виоло де Гамбо.
Я читал ему тетрадь, исписанную стихами. Он слушал глубокомысленно, как Мальчик девяноста лет, склонив голову набок, и очки подрагивали на распухшем носу.
– Это называется «Искажение», – сказал я.
Трамвайный звон улетал мимо дома, к морю, или дальше, к затону. Никогда еще и никто так не слушал. Школа исчезла, оставя по себе на холме Маунт-Плезант разящую сортирами, мышами и раздевалкой дыру, а «Дружба» сияла во тьме неведомого города. В тихой комнате, которая была мне знакома издавна, сидя на пестрых грудах гаруса, одноглазый и распухлоносый, мы отдавали должное нашим талантам. Будущее стлалось за окнами, и через Синглотнский парк, над головами влюбленных, уплывало в дымный, вымощенный стихами Лондон.
Миссис Дженкин заглянула, включила свет:
– Ну вот, так уютней. Не кошки же вы.
Свет спугнул будущее, и мы прогрохотали сонату доктора Перси.
– Нет, это что-то! Прекраснее не бывает! Громче, Америка! – орал Дэн.
– Оставь мне басов-то чуть-чуть! – орал я, но тут нам стали колотить в стенку.
– Это наши Кэри. Мистер Кэри – китобой, – сказал Дэн.
Мы для него играли колоссальную, оглушительную вещь, пока миссис Дженкин не прибежала наверх с шерстью и спицами.
Когда она ушла, Дэн сказал:
– И почему человек должен вечно стыдиться собственной матери?
– Ну, может, с годами пройдет, – сказал я, но я в этом сомневался. На днях, гуляя еще с тремя мальчиками после школы по Главной улице, я увидел маму с миссис Партридж возле кафе «Кордоума». Я знал, что она при всех остановит меня и скажет: «Смотри не опаздывай к чаю», и мне захотелось, чтоб Главная улица разверзлась и поглотила меня. Я любил ее, и я от нее отрекся. «Давайте на ту сторону перейдем, – сказал я, – там у Гриффита на витрине такие матросские сапоги!» Но в витрине рядом с рулоном твида всего-навсего скучал в своем спортивном костюме одинокий манекен.