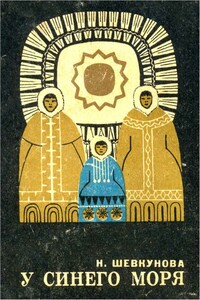Ай-Петри (нагорный рассказ) | страница 31
Палатка насквозь вспыхнула как перегоревшая лампочка, и тут же гром справа-сзади хлобыстнул по ушам. Явственно я помнил кощунственно влекущий облик мадонны Мунка, ее надломленный отчаянием взгляд. Я слышал еще скрипучий шорох мелованных страниц, среди которых однажды мне впился в сердце этот образ. Он ошеломил меня новым зрением. Я увидел в нем скрытый — тем, что гораздо ближе к осязанию, чем кожа и лицевые мышцы — тот же страшный к р и к. Сделано это было примерно так же незамысловато, как Леонардо утаил свое лицо под ликом Джоконды. Очевидно, к р и к был сокрыт не только графической уловкой анатомического подражания, он совпадал с самой идеей облика мадонны. (То же было бы и с уловкой Леонардо, если бы, благодаря взаимной однозначности, его автопортрет так же скрывал Джоконду, как она его.) И вот эта замедленная очевидность, пронзительность — нарастание острия в живой плоти сознания, глаза — сводила с ума.
Станция сипела и подвывала о чем-то уже другом, а лицо мадонны, совмещенное с к р и к о м, еще стояло у меня перед глазами, в ливневой потрескивающей мгле — и, будто свеченье перистых облаков в вышине, гасло над речной страной.
Да, приемник часто меня выручал. И особенно он пригодился здесь, в тайге, где так припер меня напряг. Вдобавок ко всем прелестям, бескрайность замкнутой топологии тайги парадоксально вызывала приступы клаустрофобии. Единственный способ их прекратить состоял в том, что я немедленно залезал на сосну, карабкаясь к нижним ветвям верхушки, где уже колыхалось, ходило корабельное, мачтовое море, а ветер шумел великим гулом хвойных крон, чуть сиплым, свистящим в игольчатых кистях. Приступ заканчивался сразу, если мне удавалось разглядеть впереди, среди безбрежных волнообразных вздыманий тайги — некий уступ, проблеск, намек на отклонение в ландшафте: будь то ледниковая «скатерть», уставленная валунными моренами, заросшая кипреем, чабрецом, иван-чаем, полынью, зверобоем, — или речной луговиной, на которой можно было предаться ухе и печеной кумже с брусникой…
Вообще, нервишки стали сдавать уже в конце первой недели. Ночью я не расставался с ракетницей и один раз с испугу саданул по шебуршившему неподалеку ли́су. Куст, в котором он прятался, даром сгорел, а от самой зверушки не осталось ничего, кроме оскаленной мумии и запятой зловонного помета. Я горевал, сетуя на нечаянную жестокость. Позже как раз выяснилось, что зверей следовало опасаться в наименьшей степени.