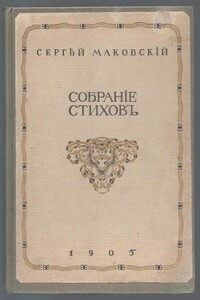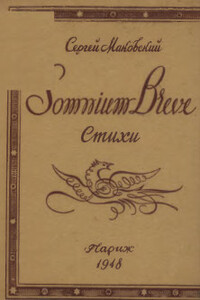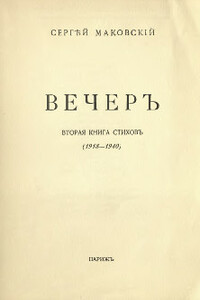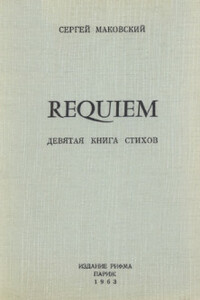Портреты современников | страница 69
Вернемся на угол Бассейной и Обводного канала — к «гуревичам». Товарищеская среда в учебном заведении, взлелеянном неусыпными трудами Якова Григорьевича Гуревича, резко отличалась от среды Лицея, где преобладали барчуки из чиновного дворянства. Яков Григорьевич — маленький, толстенький, седенький, гладко выбритый (только смешно торчали седые бачки колбасками) — гордился тем, что ему поручает детей отборная интеллигенция (он произносил «интэллигенция», «литтэратура»); за его гимназией утвердилась репутация питомника полупривилегированного типа… Конечно, Яков Григорьевич, дороживший своими связями в радикальных кругах, не делал различия между благороднорожденными и простыми смертными (хоть и гнался за именами ученых, писателей, артистов, как Устрялов, Михайловский, Вейнберг, Забела, Стравинский, Абаза, князь Тенишев), но всё-таки кичился он тем, что ему доверяли сыновей сам граф Сергей Димитриевич Шереметев и княгиня Юсупова… Соответственно подбирался и преподавательский персонал: географии учил генерал Пуликовский, русскую литературу преподавал А. А. Витберг (родной сын неудачливого гения-строителя и масона времен Александра Благословенного), уроки истории Гуревич делил с блестящим доцентом-одноручкой Форстеном (в конце 90-х годов он получил университетскую кафедру), а наш немец был популярный переводчик Лермонтова и Алексея Толстого — Федор Федорович Фидлер. Большое внимание уделялось урокам рисования, лепки и пения.
Но особого рвения к наукам, надо сказать, благодушно-либеральная педагогика Гуревича у его питомцев не возбуждала: в иных казенных гимназиях, или напр., в Peterschule и Annenschule, молодежь училась куда твёрже. Отсюда сравнительная легкость экзаменов «у Гуревича», — этим широко пользовались маменькины сынки, лодыри в усах, сидевшие на задних партах.
Зато мы усердно читали самые разные книги и дома и в классе; учителя нам не мешали, спрашивали уроки без педантства и увлекались своими «профессорскими лекциями». Я тотчас примкнул к дружной компании юнцов-скороспелок, которых подхлестывала жажда внешкольного всезнайства, — очень поверхностного всезнайства, но это восполняло до известной степени пробелы школьной учёбы…
Для мальчиков без родительского крова (в Петербурге) имелся у Гуревича интернат. Тут было скучно, от случайного состава воспитанников, и жилось от отпуска до отпуска. Целую зиму, пока моя мать не вернулась из заграницы, я оставался в этом интернате, на попечении моих дяди с тетей — Султановых, у которых я проводил праздники. Екатерина Павловна Султанова, общественная деятельница-радикалка, писательница, подписывавшая свои собственные повести и переводные романы с итальянского, по преимуществу, девичьей фамилией Леткова. Дядя, архитектор (позже — директор Института гражданских инженеров), строил в то время кремлевский памятник Царю-Освободителю