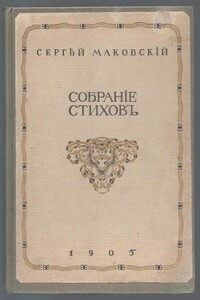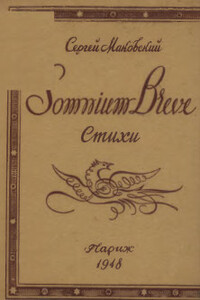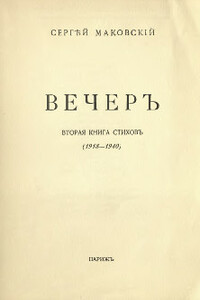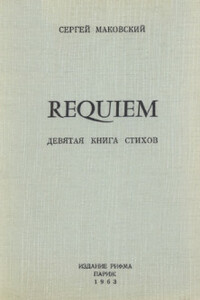Портреты современников | страница 68
Только недавно узнал я, что он посвятил в своих воспоминаниях о путешествии по России (9 том, «Страны и люди») страницы встрече со мной и моей сестрой, очень горячо и ласково вспомнив о нас, русских «вундеркиндах» у Рауха.
«Что особенно удивляло меня, — пишет Брандес, — в молодежи славянских стран, это ее ранняя зрелость, или, вернее, то очко вперед в образовании и приобретенных знаниях, которое отдельные молодые люди этого племени могут дать всякой другой молодежи, какую мне доводилось знать».
В этих «воспоминаниях» Брандеса подтверждается (хотя и в иных, несколько насмешливых, тонах) всё то, что я рассказал о причудах Соловьева.
С Владимиром Сергеевичем я встречался еще несколько раз у Надежды Евгеньевны в Петербурге. По-прежнему он юношески весел бывал с нами, угощал терпентинными леденцами, декламировал свои пародии на декадентских поэтов. Вспоминается мне и его чтение, у Ауэр, глав из «Оправдания добра». К этой замечательной книге я возвращался впоследствии с особым вниманием, здесь русская этическая мысль выразилась, может быть, убедительнее, чем где бы то ни было…
Скончался он в 1900 году, в июле. Присутствовать на похоронах мне не довелось: сейчас же после университетских экзаменов в это лето я уехал заграницу.
Так и скрылись от меня оба почти вместе — Георг Брандес, «большой человек» Запада, радужно сверкавший самолюбивой мыслью, и большой русский европеец, излучавший свет мудрости и беседовавший с призраками — Владимир Соловьев. Так и вспомнились вместе.
Александр Добролюбов
После того, как не перевели меня из старшего приготовительного в шестой класс Лицея, я попал к Гуревичу — «реалистом», несмотря на успехи мои по латыни: в Лицее не учили греческому. Позже, чтобы поступить в университет, пришлось оба языка сдать дополнительно с особого разрешения министра. Всю классическую премудрость, вплоть до Горация и Геродота, я более или менее осилил, занимаясь дома, и благополучно выдержал экзамены (при восьмой гимназии) уже будучи вольнослушателем университета.
Упоминаю об этом, чтобы пояснить, отчего моими друзьями из «гуревичей» оказались не реалисты, а гимназисты: нас сблизили тени античного мира, поэзия, искусство: реалисты — те мечтали о карьере инженеров. Впрочем, «реальная» программа отвечала моей тяге и к естествознанию: на физико-математическом факультете, избрав естественное отделение, я сосредоточился на ботанике и зоологии. Мне казалось, что остальные науки узнаются и так, а для естественных необходим университет… Затем, определившись уже на службу в Государственную канцелярию, я продолжал посещать университет в качестве вольнослушателя-юриста и даже держал несколько переходных экзаменов (начались тогда же и мои занятия по истории искусства, отвлекавшие в сторону и от природоведения и от юриспруденции).