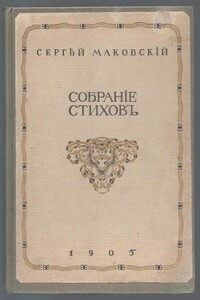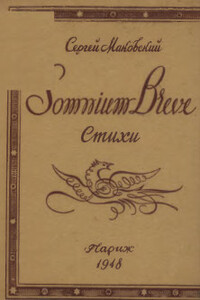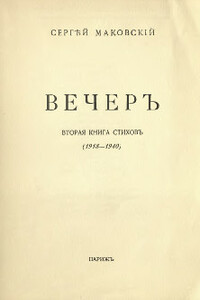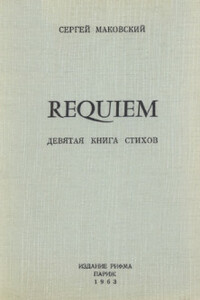Портреты современников | страница 49
Вторая Ницца
В начале июня 89 года больную мать врачи решили отправить в Киссинген; ее внесли на руках в железнодорожный вагон. Отец поехал с нами. Перемены в нем ни я, ни моя сестра еще не замечали, но уже тогда встреча его в Париже с молодой девицей М. А. Матавтиной (ставшей пятью годами позже его третьей женой) приобрела характер прочной связи.
Киссинген был очень оживленным курортом. Больные съезжались отовсюду, но встречались на «музыке» и попросту любители модных вод, и праздная международная знать; процветали теннис, крокет, volant. Семья Вильгельма II находилась поблизости; в самом городе, на отлете, в роскошной вилле доживал свою славу железный канцлер князь Отто фон Бисмарк. Его невысокая плотная фигура в сопровождении огромного серого дога мелькала часто в аллеях парка.
Наставницей моей сестры была упомянутая уже Р. Н. Манаева, служившая до того у последнего в роду гр. Чернышева компаньонкой его дочери Софи. Старый граф, приехав ненадолго, обворожил нас своей барственной простотой и любезностью; такими были, вероятно, иные вельможи в век Екатерины… Приезжали проведать мать, выздоравливавшую после грязевых ванн, и друзья из Петербурга; между ними самым неизменно-верным оставался А. П. Плетнев (родной сын «пушкинского» Петра Александровича Плетнева и Александры Васильевны, которой А. Ф. Кони посвятил несколько страниц в своей книге воспоминаний, а Тютчев, за год до смерти, свое удивительное стихотворение — «Чему бы жизнь нас ни учила», — старушка воспитывала своего внука лицеиста и умерла только в девяностые годы).
Мы с сестрой уже пользовались известной свободой, знакомились с однолетками-иностранцами и много рисовали, уходя с походными «плиянами» в глубину парка. Отец интересовался нашими этюдами с натуры и воодушевленно рассказывал об операх Вагнера в Байрейте, куда он съездил из Киссингена; ничто не предвещало, что так скоро он расстанется с нами навсегда.
В августе мы всей семьей двинулись дальше, сначала — в Saint-Jean de Luz (на границе Франции и Испании), затем — в Биарриц, где заняли виллу на скале, на самом берегу океана. День и ночь оглушительно шумели волны, бури были часты, свирепствовал северно-восточный ветер. Просторный пляж то пестрел разноцветными кабинками и весь жужжал толпой купающихся в часы отлива, то быстро сокращался, и дети с криком убегали от приближавшихся к набережной волн.
Замелькали опять знакомые петербуржцы; между ними выделялась исключительная красавица М. П. Бенардарки, к тому же и превосходная певица: она завораживала своим драматическим сопрано с глубокими контральтовыми нотами и фразировала в совершенстве (была ученицей тенора, поляка Жана Решкэ, блиставшего в парижской Большой Опере). Константин Егорович написал с нее несколько портретов (еще до Биаррица). С ней были две дочери-подростка — Мария и Елена (первая вышла замуж за кн. Радзивилла, вторая — за виконта де-Контад). Я ходил пить чай с ними в соседнюю кондитерскую: мне нравилась Елена, но Мария была красивее… Не так давно, в Париже, я зашел к кн. М. Д. Радзивилл; она одиноко доживала свой век разоренной эмигранткой, сильно располневшая, неузнаваемая, но сохранила кое-что из прежней обстановки: в спальне висел один из отцовских портретов Марии Павловны Бенардаки — небольшой, эскизный, самый удачный. Тогда в Биаррице отец написал ряд очень красивых пейзажей гвашью, заодно — и мой портрет и портрет сестры; и тот и другой оставались у него до смерти.