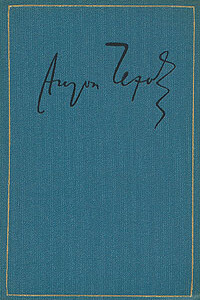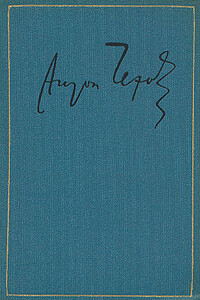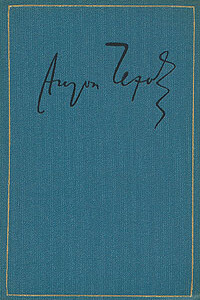Переписка 1815-1825 | страница 23
С подобострастием предлагаю эти стихи на рассмотрение цензуры — между тем поздравьте ее от моего имени — конечно иные скажут, что эстетика не ее дело; что она должна воздавать Кесареве Кесарю, а Гнедичеве Гнедичу, но мало ли что говорят.
Я отвечал Бестужеву и послал ему кое-что. Не льзя ли опять стравить его с Катениным? [59] любопытно бы. Греч рассмешил меня до слез своею сравнительною скромностию. Жуковскому я также писал, а он и в ус не дует. Не льзя ли его расшевелить? Не льзя ли потревожить и Сленина, если он купил остальные экземпляры Руслана? С нетерпением ожидаю Шильонского узника; это не чета Пери и достойно [его] такого переводчика, каков певец Громобоя и Старушки. Впроччем мне досадно, что он переводит и переводит отрывками — иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона и уродливые повести Мура. Когда-то говорил он мне о поэме Родрик Саувея; попросите его от меня, чтоб он оставил его в покое, не смотря на просьбу одной прелестной дамы. Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии робкой и жеманной. Тогда некоторые люди упадут, и посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев — с своими чувствами и мыслями, взятыми из Флориана и Легуве. Так-то пророчу я не в своей земле — а между тем не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас молдованно и тошно; ах, боже мой, что-то с ним делается — судьба его меня беспокоит до крайности — напишите мне об нем, если будете отвечать.
А. Пушкин.
27 июня.
Ты упрекаешь меня в забывчивости, мой милый: воля твоя! Для малого числа избранных желаю еще увидеть Петербург. Ты конечно в этом числе, но дружба — не италианской глагол piombare[60], ты ее также хорошо не понимаешь. Ума не приложу, как ты мог взять на свой счет стих:
Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них? Я не читал твоей комедии, никто об ней мне не писал; не знаю, задел ли меня Зельской. Может быть да, вероятнее — нет. Во всяком случае не могу сердиться. Если б я имел что-нибудь на сердце, стал ли бы я говорить о тебе на ряду с теми, о которых упоминаю? Лица и отношения слишком различны. Если б уж на то решился, написал ли стих столь слабый и неясный, выбрал ли предметом эпиграммы прекрасный перевод комедии, которую почитал я непереводимою? Как дело ни верти, ты всё меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, что это всё минутная туча, и что ты любишь меня… Итак оставим сплетни и поговорим об другом. Ты перевел Сида; поздравляю тебя и старого моего Корнеля. Сид кажется мне лучшею его трагедиею. Скажи: имел ли ты похвальную смелость оставить пощечину рыцарских веков на жеманной сцене 19-го столетия? Я слыхал, что она неприлична, смешна, ridicule. Ridicule!