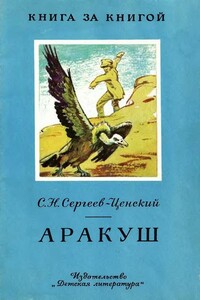Мне снится королевство | страница 24
Она брякнула ведром и ушла доить Белянку. А мне так не хочется вставать, так тянет зарыться в подушку и досмотреть сон. К тому же вчера я порядком устал — целый день трудился не покладая рук в своем королевстве. И не зря: почти все уже готово, близится долгожданный день.
А труба поет, труба велит мне вставать, отправляться на пастбище. Тру-ру-ру!..
Да, это мне. Сегодня моя очередь. Три дня подряд я буду пасти Безрожку портного Матаушаса, Пятронелину Пеструху и нашу Белянку. Потом десять дней буду бегать где хочу и сколько хочу, потом снова три дня пасти. Это Симонас завел такой порядок. Он — старший пастух, а пастухи и подпаски у него сменяются. Ребят в деревне много, и родители посылают нас присматривать за своей скотиной. Но на что будет похоже, если каждый потащится на луг за своей коровкой: что ни корова, то пастух! Вот Симонас и придумал, чтобы каждый из нас бегал за коровами три дня, потом отдыхал. И еще. Чьих коров пасешь, тот тебя и кормит. Когда я пасу Безрогу Матаушаса или коровушку тети Пятронеле, я обедаю у этих людей. Вообще-то я не люблю есть у чужих, но таков старинный обычай, не мне его менять.
Я живенько оделся, схватил свой кнут в углу сеней, выбежал во двор. Мама кончала доить. Последние струйки молока тонкими ниточками прошивали высокую шапку пены в ведре.
— Кто сегодня кормит? — спросила мама и разогнулась.
— Домой побегу.
— Ладно. Я оладий картофельных напеку. А пока что захвати-ка с собой завтрак.
Мама всегда дает мне с собой что-нибудь закусить. Кусочек копченого окорока или домашнего сыра с тмином — душистого, свежего. А картофельные оладьи — моя самая любимая еда, я готов есть их с утра до вечера и каждый день, всю свою жизнь. Я ем их так, что за ушами трещит, дух перевести и то некогда. Румяные, с поджаристой, хрустящей корочкой пышные картофельные оладьи — самая замечательная еда на свете, честное слово!
Я сунул мамин завтрак в карман сермяги, застегнул пуговицы. Н-да... сермяга ты моя, сермяга... Рано утром в ней, конечно, неплохо, а к полудню уже не знаешь, как от нее избавиться — хоть в крапиву кидай. Правда, иногда она мне служит подстилкой. Это — днем, когда стадо залегает на отдых и мы, пастухи, тоже укладываемся поспать.
— Эгей, Белянка! — я хлопнул кнутом и выгнал корову за ворота. А там уже шумно: лают собаки, громко переговариваются хозяйки, мычат коровы. С гнезд снимаются птицы, бьют крыльями. Аисты дяди Доминикаса повозились в своем огромном гнезде, пощелкали клювами и улетели на луг, ловить лягушек. Скрипят колодезные вороты, из труб вьется веселый дымок: в каждом доме готовят завтрак, собирают мужчин на работу. На ветках деревьев, на листьях, траве еще блестит роса, солнце еще не высушило ее, не посбивал ветер — вот какая рань. А Симонас уже шагает по улице. Как всегда, он в длинной, до колен, сермяге, в штанах из рядна, стоптанных деревянных башмаках, шляпа — старая-престарая, нахлобучена по самые глаза. В руке у Симонаса длинный бич с гладким можжевеловым кнутовищем, через плечо висит и блестящая труба.