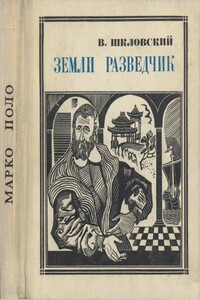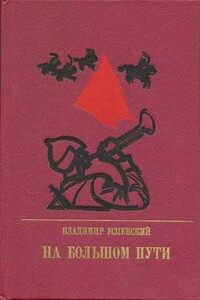Минин и Пожарский | страница 34
Пришли в Балахну. Город под рукой у Нижнего. И Пожарского и Минина здесь все знают. Минин здесь ратником был, в ополчении Алябьева.
Город тих, разграблен. Колодцы, из которых берут рассол для солеварен, обветшали.
Встретили ополчение хорошо. Дивились люди на смелость ополчения, дивились, качали головой и присоединялись.
Пошли дальше. Шли чинно, деревень не трогали, кормились из котлов.
Когда по Нижнему шли, казалось, что три тысячи народу – много, и в Балахне еле разместились. А как вышли на простор – река широка, дорога по-зимнему высока и крива уже по-весеннему.
Шли, задевая шапками за ветки деревьев. Было тихо. Рать казалась малою. Шла, теряясь в снегах.
Будто обоз идет.
Широкая Волга вся казалась дорогой. Шли будто обочиной.
Дорога широка – чай, в версту. Потерялись люди на дороге. И говора не слышно, и песни не слышно. Все съедают снега.
Прошли Городец. Малый город, тоже спаленный.
Юрьев-Поволжский стоит на склоне крутой горы. Город сожжен.
Встретили с колокольным звоном. Дали денег, татарский отряд присоединился. Вспомнили здесь сотника Федора Красного, что рубился с поляками.
Пошли в Решму. Город жженый. Тут пришли плохие вести из Владимира: Трубецкой и Заруцкий присягнули самозванцу, вору, который объявился во Пскове.
Значит, с кем встать под Москвой?
Собрал Козьма Минин десять грамотеев, достал бумаги, и Пожарский сразу десятерым диктовал письма, а списки послали не на одну Москву, а на все города.
Писал Пожарский:
«Как сатана ослепил их очи? На их же глазах их калужский царь был убит и без головы вонял перед всеми целые шесть недель. И сами же они из Калуги писали в Москву и в другие города, что царь их убит, и теперь целуют крест мертвецу».
В Решму пришли остатки отряда Гришки Лапши, крестьянина. Тут же закупили валенки для войска и пошли дальше, на Кинешму.
В синих снегах двухаршинное узкое знамя казалось каплей крови.
Нес знамя, на котором написаны были стены Иерихона и Иисус Навин, Семен Хвалов.
На нем валенки, рукавицы, штаны, шуба баранья и теплая шапка. Но стремянный томился.
Когда подъезжал к нему князь, говорил Хвалов тихо:
– Жалованьишко, князюшка, что тебе положили, все в сохранности. Ужель теперь не проживем, Дмитрий Михайлович? Только всуе мятемся, как говорил прозорливец Иринарх. Ведь я знаю, раны твои незажившие рубахи кровавят. Куда бредем, князюшка? В Нижнем хоть кормы дешевы. Нам бы схорониться куда! Икрой бы я тебя кормил с лимоном! Ты бы, солнышко мое, оздоровел, а там и увидел бы, кому служить.