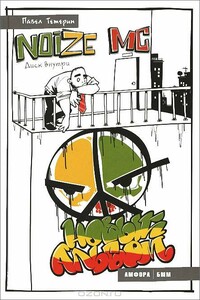Проснитесь, сэр! | страница 43
– На третьем этаже.
– Как же это случилось? Кто-то нарушил правила, куря в постели?
– Vas?
По-моему, она была немного туга на ухо, и, хотя четко говорила по-английски, мне казалось, что не глубоко освоила язык.
– Кто-то курил в постели и поджег третий этаж?
– Зажег на Шаббат[30] свечи.
– Воскурил субботние свечи в постели?
Женщина не рассмеялась.
– Большое спасибо, что вы отступили от правил, – продолжал я.
– Хотите утром ванну?
– Какую?
– Минеральную.
– Ах да. Прямо здесь, в отеле?
– Да. В подвале.
– Вы мне предлагаете ванну, хотя отель закрыт?
– Не хотите ванну принять?
– Нет… хочу. В котором часу утром?
– Утром.
Мне понравился старый дух. Утром. Никакого точного расписания. Никакой установленной очередности.
– Отлично, – кивнул я. – Приму ванну утром. Большое вам спасибо за все.
– Двести четыре, – повторила она, указав на широкую лестницу, и, покончив со мной, пошла к себе, шаркая ногами.
– Zei gazint, – сказал я ей вслед, надеясь еще сильнее очаровать ее прощальной фразой на идише, на что она не обратила внимания.
Мы с Дживсом поднимались по лестнице. Он нес две наши сумки. На двери номера висела мезуза – на дверях каждого номера. Мне это показалось приятным – хорошо очутиться в таком еврейском месте. Когда ты в меньшинстве, всегда радостно, если не удивительно, попасть в окружение, где твои обычаи составляют правило, а не исключение.
Я отпер дверь, но, прежде чем перешагнуть порог, звучно и смачно поцеловал свои пальцы, потом приложил их к мезузе, как обычно делал мой отец. Подражание покойному – отличный способ его вспомнить. Точно также, как я, занимаясь йогой, вспоминаю мать, которая впервые к ней обратилась во время болезни. Она пыталась спасти себе жизнь, и кто-то посоветовал йогу. Отец умер от сердечного приступа, когда мне было семнадцать, а мать, наверно убитая горем, через три года от рака.
Поэтому, делая такие вещи – целуя мезузу, по утрам приветствуя солнце, – я таким образом почитаю родителей, на краткие моменты возвращаю их к жизни, хотя просто мельком вижу краешком глаза.
Попытки воскресить их в памяти, составив более полную картину, довольно болезненны. При этом я с ошеломлением понимаю, что никогда не смогу провести с ними хотя бы еще один день, и боль от этой мысли становится реальной, физической. В живот как бы вонзается нож; я не чувствую острого лезвия, но ощущаю, что разрезан надвое. Проваливаюсь в себя, в дикую смесь эмоциональных и физических ощущений. Меня опустошает страшное горе, потом я начинаю себя ненавидеть за неспособность по-настоящему вспомнить их лица. Я был слишком жутким эгоистом. Проблема дурных людей в том, что они живут с кем-то всю жизнь, никогда на них не глядя. Поэтому, когда мне хочется увидеть родителей, приходится прибегать к конверту с фотографиями, которые я храню, но снимки в моих руках слишком тонкие, слишком жалкие, и в любом случае я хочу видеть родителей не в прошлом, а