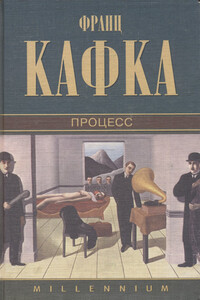Письма к Максу Броду | страница 29
Адью (я хочу еще погулять с Оттлой, которой диктую это письмо, она приходит вечером из магазина, и я диктую ей, как паша, лежа в постели, да вдобавок обрекаю ее саму на молчание, потому что она, между прочим, дает понять, что тоже хотела бы что-то сказать). Хорошо в таких письмах то, что они заведомо не настоящие. Теперь мне гораздо легче, чем вначале.
Твой Франц
[Открытка, Прага, штемпель 29.VIII.(1913?)]
Дражайший Макс,
вчера я, наверное, произвел на тебя ужасное впечатление, особенно своим прощальным смехом. Но в то же время я знал и знаю, что как раз перед тобой мне не надо оправдываться. Тем не менее скорее для себя, чем для тебя, я должен сказать вот что: то, что я вчера показывал и что в таком виде знают, впрочем, лишь ты, Ф. и Оттла (хотя и с вами мне бы стоило от этого удержаться), — конечно, лишь проход на одном из этажей внутри вавилонской башни, а что там, над ним или под ним, не знают и в самом Вавилоне. Впрочем, этого более чем достаточно, даже если я, которому это ничего бы не стоило, набив руку, взялся бы еще столько же исправить. Так все и остается, ужасно и — совсем не ужасно. Что опять же означает смех, за которым через пять минут должна последовать такая же открытка. Существуют, несомненно, злые люди, прямо-таки брызжущие злом.
Франц
[Венеция, штемпель 16.IX.1913]
Мой дорогой Макс,
я не способен связно писать о связных вещах. Дни, проведенные в Вене, я с удовольствием выдрал бы из своей жизни, причем выдрал с корнем, это была бесполезная гонка, вообще трудно придумать что-нибудь более бесполезное, чем этот конгресс. Я сидел на этом сионистском конгрессе, как на совершенно чуждом мероприятии, чувствуя себя, впрочем, стесненно и рассеянно по разным причинам (сейчас в окно ко мне заглядывает мальчик и красавец-гондольер), и, так как я не бросался в делегатов даже бумажными шариками, как это делала девушка с галереи напротив, мне даже утешиться было нечем. О литературном обществе мне почти нечего сказать, я был с ними вместе лишь дважды, все они в какой-то мере мне импонируют, но, в сущности, никто мне не нравится, кроме, быть может, Штёссингера[29], который как раз был в Вене и который высказывается с милой решительностью, да еще Э. Вайс, опять очень ласковый. О тебе здесь много говорили, и, в то время как ты, наверно, смотрел на этих людей глазами Тихо[30], они сидели здесь за столом, случайно собравшиеся люди, все вместе были твоими добрыми друзьями и то и дело с восхищением поминали какую-нибудь из твоих книг. Не хочу сказать, что это хоть что-то значит, говорю только, что так было. Как-нибудь еще расскажу тебе про это подробнее, но если кто-то и протестовал, то, конечно, лишь против чрезмерной ясности, которой ты страдаешь, по мнению этих равнодушных глаз.