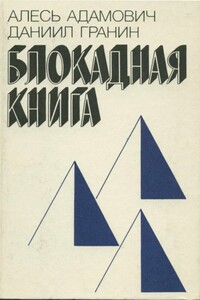Наш комбат | страница 32
— Вы были вовсе не такой хороший комбат. Только теперь вы стали настоящим комбатом. Вы все же взяли «аппендицит». Пусть через двадцать лет.
Нога его отстранилась, и он сказал с неожиданной злостью:
— Опять я хорош. Виноват — хорош, не виноват — хорош. Выгодно, выходит, признаваться.
Слова его поразили меня, а Володя расхохотался:
— Получил? — Ему очень хотелось обернуться, посмотреть на нас.
Я откинулся на спинку сиденья. Незаслуженная обида вспыхнула во мне. Володя и Рязанцев беззвучно ликовали и потешались, но я чувствовал, что это больше над комбатом, чем надо мной. Что-то неуловимо изменилось, он перестал быть опасным, они отнеслись к нему покровительственно: наивный человек — отказаться от помощи, оттолкнуть единственного союзника, все себе испортить. А я, они считали, вынужден теперь присоединиться к ним, куда же мне еще деваться?
Один комбат ничего не замечал. Он близоруко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый, и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева, и меня, и обоих комбатов — того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.
У Казанского собора Рязанцев сошел, долго примиренно прощался, просил не забывать его. Он обещал комбату сообщить про обои, утешающе похлопал его по плечу, потом отвел меня в сторону:
— Ты как считаешь, на вечере встречи он тоже… все это…
Я посмотрел на комбата. Он распрямился, мне показалось, он стал выше и лицо у него было другое, каждая черточка прорисована четко, со значением, как на старинных портретах, и костюм его перестал выглядеть старомодным, просто это был костюм из другой эпохи, так же привлекательный, как доспехи, ментики, камзолы. И осанка чем-то напоминала фигуру Барклая де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его, и плащ, — и русских офицеров, их нелегкие законы чести, безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя… Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия.
— Да, он, конечно, может… — сказал я Рязанцеву.
— Как же быть тогда? — озабоченно спросил Рязанцев.
…Машина шла по Невскому, где-то позади остался встревоженный Рязанцев, скоро и мне надо было выходить. Я не знал, что сказать комбату на прощанье. Он тоже сидел озабоченный, ему тоже предстояло что-то решать и делать. И в себе я чувствовал эту озабоченность. Если бы мы служили в армии, тогда все было бы проще. На предстоящих учениях учтем. Научим курсантов. Или если бы мы писали военную историю. Комбату, пожалуй, легче, он учитель, а кроме того, он остается комбатом, вот в чем штука…