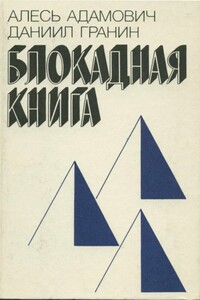Наш комбат | страница 30
Мы сидели раздвинувшись, и я ощущал свой висок под его взглядом. Каким он видел меня сейчас? Что у меня на лице? Я пытался представить себя со стороны — ничего не получалось. И так всю жизнь, никогда не можешь увидеть себя самого, движение лица, походку, жесты. Впрочем, так бывало, и отчетливо, в момент какого-то поступка. А если нет поступков? Если одни рассуждения и размышления. И наблюдения. И потом оценки и переоценки…
Приближался город. Машина, покачивая, уносила нас прочь от того одичалого поля, которое давно пора застроить, колодцы завалить, засыпать окопы, — не надо нам этих укоров, нам достаточно памятников, могил и действительно хороших воспоминаний. Какого черта, когда мы можем рассказать друг другу о том, как мы громили фашистов, какие мы устраивали окружения, клещи, освобождали Прагу, про то, как мы входили в Восточную Пруссию.
Сонно урчал мотор, в машине было тепло, мы двигались навстречу нашим женам, квартирам, работе и нашему расставанию с приятными словами и обещаниями. «А поезд уходит, — вспомнилось мне. — Ты слышишь, уходит поезд, сегодня и ежедневно».
Это были слова из одной славной песни; очевидно, никто не знал ее, даже Володя не знал, но мне кажется, что они сразу поняли, что это за поезд, потому что все промолчали. Впрочем, я не уверен, что сказал про поезд вслух, я только слышал, как мы все молчим и машина набирает скорость после перекрестков. Каждый из нас мог сойти в любую секунду. Машина одолевала краткий промежуток между прошлым и будущим, и я вдруг почувствовал, что это тот миг, который дается для выбора. Или — или. Ничто, никакие оценки потом не заменят мне ни упущенного, ни совершенного. То, что есть сейчас, не повторится никогда. Поезд уйдет, это не страница рукописи, которую можно переписать.
— Артиллерия, — я откашлялся, — по оврагу артиллерия никогда не стреляла. Овраг не был пристрелян. Мы все это знаем. Чего же притворяться?
— Кстати, насчет обоев, — сказал Володя. — Мы тоже собрались ремонт делать.
— Устроим, — сказал Рязанцев. — И тебе, и комбату. Чего другого, а тут я могу.
— Звуконепроницаемые, — громче сказал я, — кислотоупорные, прозрачные, ароматные. Послушай, Рязанцев, говорят, ложь бывает гуманной, но если человек знает, что ему врут, тогда как, ему все же легче? Пора же о боге подумать. Ну да, бога нет, но все равно дело идет к отчету. Чего вы испугались? Правды? Но ты-то, Володя, когда мы с тобой тут ползли, ты ж ни черта не боялся…