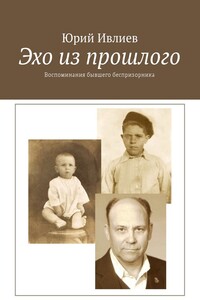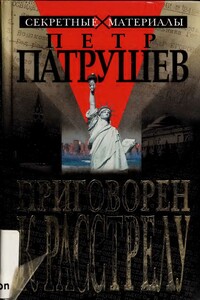Короткое счастье на всю жизнь | страница 4
К бабушке бегала я из нашего монастыря по длинной Красноармейской улице, затем по Почтовому съезду мимо приземистого «дома Кашириных»[1] с узким палисадником и крошечной красильней во дворе, выбегала на Маяковскую, там налево к Строгановской церкви, а потом — коротеньким переулком прямо к Волге (точнее, к Оке — чуть дальше они сливались, но почему-то говорилось и думалось «к Волге»), где и жила в бывших лабазах, приспособленных под человеческое жилье, моя бабушка.
Константин Павлович Мешков — папа, которого я не знала… 1942 год.
Бабушкина комната с дверцей под лестницей на чердак, крохотная, высотой пять метров с одним окном, выходящим на базар. На широком подоконнике весной стояли голубые подснежники и ландыши, летом васильки и ночные фиалки. Зимой окно затыкалось чем только можно и затягивалось плотной черной бумагой. С потолка свисала голая лампочка, и покрытые инеем стены алмазно сверкали. Печку топили редко. Дрова покупали полешками, по три, когда богатели — по пять. Весной стены плакали тонкими струйками растаявших «алмазов».
Постель с горбатыми пружинами утеплялась бутылками с горячей водой, на одеяло набрасывалось все, что могло наброситься и согреть. Осторожно влезали мы в эту берложку, тянулись пятками к блаженному теплу, натягивали на голову одеяло и замирали. Тихо. Таинственно. Рядом теплая бабушка. Сладко пахнет душистый обмылочек под подушкой. «Кто едет, кто скачет…» — шепотом читает мне бабушка по-немецки «Лесного царя» или учит считать по-французски и незаметно засыпает. А я еще сражаюсь с немцами. Я летчица, как папа, конечно, побеждаю и, конечно, героически гибну. Слезы ползут на нос и, вволю настрадавшись, засыпаю тоже. Или танцую, и тогда в плавном кружении уношусь в страну сна.
Часов не было. Чтобы не опоздать на работу, бабушка несколько раз в ночь бегала к почте. Там под крышей были большие круглые часы. Поднимались затемно. Вскипятив на керосинке немного воды, пили ее маленькими бережными глотками. За пазуху мне пристраивался кусок хлеба — и разбегались. Бабушка через Окский мост в Канавино в тубдиспансер, где она работала, а я — через зябкий ужас кладбища — в монастырь к маме.
Перед тем как мне пойти в школу, меня отправили на лето к дедушке в город Выксу, чтобы я откормилась и окрепла. Ничего я о нем не знала. С бабушкой они разошлись в незапамятные времена. Дед был инженером на металлургическом заводе и почти не бывал дома. Вторая жена его совсем не обрадовалась моему приезду, и очень скоро оказалась я в стае местных мальчишек. В большом двухэтажном полдоме деда было неуютно, неприветливо, как будто там никогда не росли дети и никто не смеялся. На улице было больше жизни. Светило солнце, барабанили дожди, бродили козы. По заросшему парку разбегались таинственные тропинки, можно было на прутике жарить сыроежки или отыскать позднюю землянику. Я понемногу дичала. Косы не расчесывались, ноги и руки покрылись цыпками.