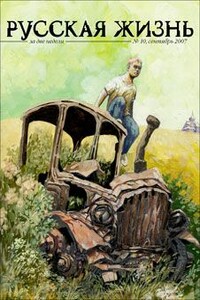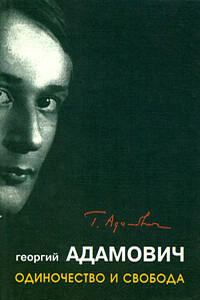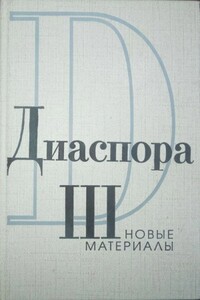Литературные заметки. Книга 2 | страница 48
Позволю себе короткое «pro domo sua», – позволю себе его лишь в уверенности, что эти мои ощущения многим знакомы: я очень люблю стихи… Вопреки распространенным сейчас мнениям, я продолжаю верить, что это высшая форма словесного творчества, поистине, «божественная», поистине, «вечная». Всякие соображения о «перерастании» поэзии жизнью представляются мне ребяческим вздором. Все можно сказать в стихах, – и как сказать! Тютчев, например… Разве тоненькая книжка его стихов не «стоит» всего Достоевского, – стоит не в том смысле, конечно, что он «выше» или «ниже» его, или сводит Достоевского «на ноль», а только в том, что она представляет собой нечто равноценное, настолько же глубокое, единственное и незабываемое. Конечно, Тютчев никогда не получит в Европе такого влияния и признания, как Достоевский, – но это ведь оттого, что он непереводим. Мы-то знаем цену ему. И знаем, чем он и как Россию обогатил. (Кстати, о Тютчеве и Достоевском. Не удавалось ли порой Тютчеву с чудесной прелестью, с чудесным лаконизмом создать как будто целую главу «психологического» романа, – в нескольких словах?.. Например, «Весь день она лежала в забытьи» или «Она сидела на полу»). А Бодлер! О нем тоже можно было бы сказать, что его «книжка небольшая томов премногих тяжелей». Не только «премногих», но и всего, вероятно, что во французской литературе за последние полвека появилось. Когда Гюго покровительственно сказал, что Бодлер создал «un nouveau frisson», он не предвидел, вероятно, что из этого «нового трепета» выйдет все позднейшее искусство. Но не будем говорить о Тютчеве и Бодлере. Если говорить коротко, поневоле придется ограничиться одними только восклицаниями. А раз увлечешься такой темой, – то никогда и не кончишь… Скажу только снова: я очень люблю стихи… Но, читая современные сборники их, я то и дело начинаю в своей любви сомневаться, и не раз ловлю себя на мысли: если мне над этой книжкой скучно, то не во мне ли самом вина? Сомнение рассеивается, как только вспоминаешь иные стихи – даже и не такого уровня и не такой силы, как те, которые я только что упомянул, а бледнее, скромнее. Но сейчас даже и так никто не пишет, никто не может писать. Одни, поумнее, дописывают; скупо и редко, – боясь всего похожего на красноречие и десятки раз проверяя, – взвешивая каждое слово и как бы обескровливая себя. Другие… но анекдот о Боборыкине я уже рассказал. Земля оскудела под стихами. Надо перейти на другую полосу, чтобы дать той набраться новых соков и сил, – да и для того тоже, чтобы самим на иссохшей почве не работать бесплодно.