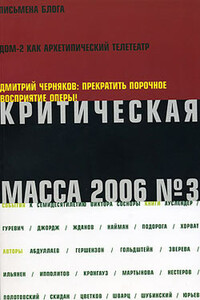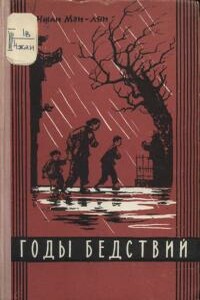Критическая Масса, 2006, № 2 | страница 59
* * *
Наконец, необходимо упомянуть о роли радио, которое в 1990-е было самым прогрессивным из медиа. Еще в ночь первого путча радио «Балтика» начало исполнять электронную музыку, что символизировало наступление новой эпохи. Во времена «Туннеля» слушали экспериментальное радио «Катюша», возникшее на базе старой глушилки. В 1997 году мне довелось вести программу на радио «Рекорд», первым начавшем транслировать чисто танцевальную музыку. В полуразрушенном доме у подножья телебашни по вечерам мы были свободны делать, говорить и играть что хотели в прямом эфире. Молодые поклонники техно-музыки приезжали к этой руине, чтобы просто быть рядом. На этом же радио вели передачи и другие ветераны — Леша Хаас, Африка, Попова и др. Последней яркой вспышкой в этой сфере стал амбициозный проект «Порт». Клуб с этим названием быстро сменил формат, но радио, возглавляемое Иветтой Померанцевой, продолжало оставаться всеобщим «светом в окошке» до лета 1998 года.
Теперь и опен эйры освоили коммерсанты, поставившие их на деловую ногу. А иногда так хочется потанцевать, ведь я не искусствовед, не художник, а вольный танцор. Вспоминается сентимент (такой маленький мент): уже слепой Тимур на вечеринке «Любимые песни дедушки русского рейва» в клубе «Мама», исполняющий «Белые розы».
Время Тимура. Екатерина Андреева о Тимуре Петровиче Новикове
В одном из номеров журнала «ОМ» середины 1990-х было интервью Тимура Новикова под заголовком «Как я придумал рейв». А в собственных лекциях Тимур рассказывал о том, как его друг Виктор Цой послал мантру «Мы ждем перемен» — и произошла в стране «перестройка». Тимур придумал так много всего, что Владик Мамышев-Монро в рукописном литературном фрагменте 1989 года, хранящемся в архиве Беллы Матвеевой, недаром назвал его своим отцом и матерью, и многие могли бы разделить с Монро это чувство. Тимуру была свойственна невиданная легкость, такая пушкинская, за которую А. С. упрекал Синявский. Поэтому Тимур сильнейшим образом отличался от всего советского, да и вообще российского: толстовско-достоевских границ для него не существовало. Это было заметно даже внешне: самим своим обликом и повадкой Тимур доказывал, что нету никаких реальных преград ничему. И мы благодаря ему узнали и то, как это замечательно, и то, как это бывает ужасно. Но во второй половине 1980-х это было, конечно же, замечательно.
* * *
Появление Тимура всегда было сценично, легко и эффектно. Например, в 1986 году на монтаже весенней групповой выставки ТЭИИ во Дворце молодежи, которая так и не открылась из-за цензурного давления, мы с друзьями обыкновенно проводим время: посиживаем на подоконнике с «митьками», выпивая наш запас, их запас и запасы их многочисленных поклонников, обсуждая, что бы и куда бы взять да и повесить. И тут в длинный зал со сплошным остеклением прямо на велосипеде въезжает Новиков в алом свитере, с панковской геометрической стрижкой, похожей на шлемы рыцарей в фильме Эйзенштейна «Александр Невский», мгновенно спрыгивает с седла, приветливо здоровается и за три минуты укрепляет на стене внушительное произведение «Портрет „Новых художников“ и группы „Кино“». Так быстро, потому что произведение было нарисовано на шторе для ванны и привезено в маленьком пакетике, привязанном к багажнику. После чего, приветливо попрощавшись, уезжает. А через несколько минут возникает еще один велосипедист — Евгений Юфит, в трениках и спортсменках. Он мрачно распаковывает картину, свернутую в рулончик. Оценив, что экспозиция «Новых художников» на стене мастерски закончена Тимуром, Юфа приматывает свой холст, похожий на маньеристический гротеск в исполнении художника-каннибала, прямо к ближайшей колонне.