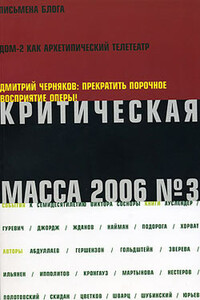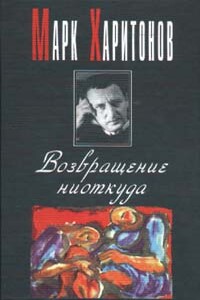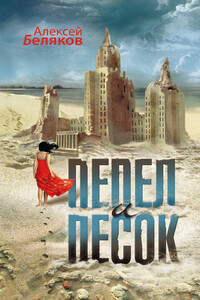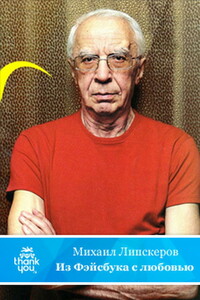Критическая Масса, 2006, № 2 | страница 5
Возможно, вы правы в том отношении, что мои рецензии написаны как бы с перехлестом относительно хорошего тона. Подчеркиваю — не качества книг, а именно правил хорошего тона. Тут есть особая тема.
Дело в том, что, читая эти книги, обе, я понял, что они очень не понравятся соответствующим корпорациям. Быков — филологам, лингвистам, наследникам Тарту. Потому что, во-первых, тут действует табель о рангах — кто такой Быков, чтобы писать о Пастернаке, а во-вторых, содержание книги для этой корпорации оскорбительно. Он ведь рассказывает нам о том, как Пастернак принимал советскую власть, как искренне захотел стать советским поэтом, и не только как у него не вышло, а как у него вышло. Тут ведь много меня когда-то дезориентировавших обстоятельств. Откуда эта дача в Переделкино? За «Сестру мою — жизнь»? Почему Мандельштам скитается по каким-то углам, ну разве не по вокзалам ночует, а этот вот так живет? Я знаю, что он там на даче очень мучился, эта тема как раз хорошо описана и изложена многими авторами, а вот откуда сама дача? Откуда эта поездка на [парижский] конгресс защитников мира? Причем Быков рассматривает это вовсе не с целью хоть сколько-нибудь принизить своего героя. Напротив, для него вдруг именно Пастернак с его приятием жизни — всякой жизни — оказывается героем против сегодняшней всеобщей неспособности принять свою страну. Ясно было, что такого Пастернака интеллигентская корпорация не примет ни за что.
Что же касается Кантора, то тут уж всем досталось просто прямым текстом. Я не буду здесь пересказывать, что сказал в своем отклике, все, что сказано, — искренне, я действительно так думаю. Большинство из того, что ставят книге в укор, мог бы, вероятно, сказать и я. Не вдаваясь в долгие объяснения, попробую, Глеб, бросить вам мяч, который вы, может быть, примете, — вспомните трактовку Некрасова у ранних формалистов. Когда все пишут очень хорошо, нужно начать писать плохо.
Когда я писал свои рецензии, то я думал еще вот о чем. Дело в том, что я терпеть не могу корпоративных мнений. Я всегда от них бежал, я выдумывал области занятий, в которых нет никаких корпораций, начиная от семиотики архитектуры, которой искусствоведы не занимались, потому что не знали семиотики, а семиотики — потому что ничего не понимали в архитектуре (включая сюда и Умберто Эко, который таки написал брошюрку на эту тему), и кончая архитектурной критикой, которой, когда я начинал, не занимался почти никто. Мне корпоративные взгляды кажутся жизненной позицией, взятой напрокат — и потому бесплодной. Причем, как правило, пока есть какое-то живое движение, в нем корпоративных мнений нет — есть яркие личные позиции, сложно друг с другом взаимодействующие, — сейчас даже трудно себе представить, что могло быть общего у Лотмана с Борисом Успенским. А как только движение дохнет, так на первый план вылезает проповедующая серятина. Это касается любого движения — что авангарда, что Тартуской школы.