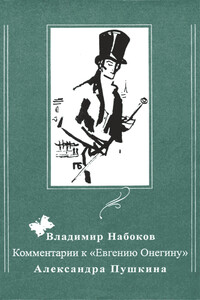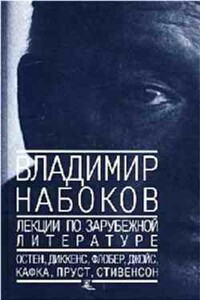Комментарий к роману «Евгений Онегин» | страница 33
Во избежание монотонности часто используется прием переноса, который может быть внутристрофическим или межстрофическим. В одном случае мы имеем яркий пример, когда совершенно неожиданно обычно независимый первый катрен блестящим образом переходит во второй, а фраза иногда резко обрывается в середине пятой строки (например, гл. 5, I, XXI; гл. 6, III; гл. 7, XV). В другом случае целая строфа переходит в следующую, а фраза внезапно заканчивается тут же, в первой строке (см.: гл. 3, XXXVIII–XXXIX и гл. 8, XXXIX–XL).
С другой стороны, мы обнаруживаем строфы, в которых поэт использует
интонацию двустишия чисто механически или же слишком часто употребляет прием перечисления, составляя цепочки из наименований чувств, списки различных предметов — по три слова в каждой из однообразных строк. Этот недостаток характерен для афористического стиля, который был естественной уступкой Пушкина XVIII веку с его элегантными проявлениями рационализма.
Единственная схема рифмовки в английской поэзии, похожая на онегинскую, которая приходит мне на ум, — это последовательность первых четырнадцати стихов в строфе из восемнадцати неравностопных стихов, которыми была написана «Ода к Ликориде» («Ode to Lycoris») Вордсворта (в трех строфах) в мае 1817 г. Рифмы в ней расположены следующим образом: bcbcddffghhgiijjkk. Вот первые четырнадцать строк средней строфы:
Структура «Евгения Онегина»
Когда в мае 1823 г. Пушкин начал писать ЕО, возможно, он уже видел перед собой картины деревенской жизни, которые нарисованы в рамках второй главы, а смутный образ героини, несомненно, настойчиво блуждал по закоулкам его воображения; но у нас есть основания предположить, что к середине второй главы этот смутный образ еще не раздвоился, превратившись в двух сестер, Ольгу и Татьяну, Прочие детали романа были не более чем туманным облаком. Главы и их части задумывались так, а писались иначе. Но, говоря «структура», мы имеем в виду не поэтическую «мастерскую» Черновые наброски, ложные следы, не до конца пройденные тропинки, тупики вдохновения не имеют большого значения для понимания сути романа. Художник должен безжалостно уничтожить все свои рукописи после опубликования произведения, чтобы они не дали ложного повода ученым посредственностям считать, что, исследуя отвергнутые варианты, можно разгадать тайны гения, В искусстве цель и план — ничто: результат — все. Нас занимает только структура опубликованного произведения, за которое отвечает сам автор, ибо оно вышло в свет при его жизни. Сделанные в последний момент изменения, включая и те, что были навязаны внешними обстоятельствами, — и неважно, какими именно мотивами руководствовался Пушкин, — должны быть сохранены, коль скоро поэт счел нужным их оставить Даже к очевидным опечаткам надо относиться осторожно; в конце концов, не исключено, что их решил не исправлять сам автор С какой целью и почему он поступил так, а не иначе, к делу не относится Мы можем выявить изменение плана, отсутствие оного или, наоборот, телеологическую интуицию гения, но все это явления метафизического порядка. Повторю, что для исследователя значение имеет лишь структура законченного произведения, и только законченного произведения, по крайней мере, когда исследователь, как в данном случае, имеет дело с мастерским творением художника.