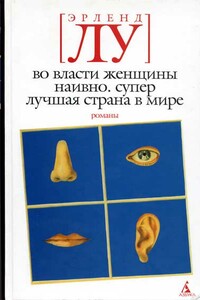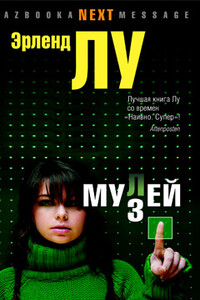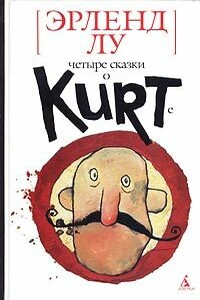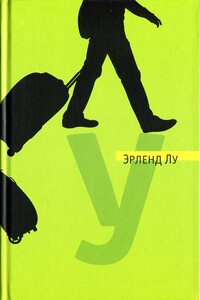Тихие дни в Перемешках | страница 11
Так думает Телеман.
А обязательно слушать дойче-музыку каждый божий день?
Что значит — обязательно?
По моим наблюдениям, мы слушаем ее каждый день.
Она тебе не нравится?
Ну как сказать. В ней слишком много тоски. Это через некоторое время приедается.
Вся музыка вырастает из тоски.
Порядком обрыдшей тоски.
Можно сказать и так.
И чего народ тоскует?
Людям всегда не хватает самых обычных вещей.
Как то?
Как то: любовь, друзья, семья.
Театр?
Не думаю, чтобы все тосковали по театру.
А я уверен.
Хорошо.
Я думаю, сплошь и рядом люди полагают, что тоскуют по чему им там кажется, а на самом деле они в это время тоскуют по театру.
Неужели?
Представь себе.
То есть у тебя целая теория, что истинная тоска человека — это пратоска по театру?
Да.
Понятно.
У людей есть глубинная потребность: собраться вместе в темной комнате, и чтобы им рассказали историю о реальных людях, которая заставит их взглянуть на себя в ином свете.
Понятно.
А вся эта музыка, йога, фитнес — это все фуфло.
Ну да.
Им театр нужен.
Понятно.
А ты не мог бы пойти тоже, Телеман?
Я бы лучше поработал.
Тебе на пользу погулять в горах, продышаться и зарядить аккумуляторы. Пьеса твоя все равно стоит на месте.
Вот именно. Потому мне и важно начать. Расписаться.
И Бадеры с нами идут.
Господи!
Нина с Бертольдом, Сабиной и Бадерами идут к станции подъемника на вершину Цугшпитц.
Телеман принимается думать о театре. Он думает о театре пять минут, десять, он думает о театре уже пятнадцать восхитительных минут, когда приходит Хейди и зовет его съездить с ней на тренировку.
Даже не знаю. Я думал поработать немного.
Ты никогда не ходишь на мои тренировки.
Ну, это все же не совсем так.
И когда ты приходил в последний раз?
Тогда... зимой.
А сейчас какое время года?
Господи помилуй, хорошо, я иду с тобой на тренировку. Но, чур, мне разрешается отвлекаться от корта и кое-что записывать.
Сколько угодно.
Уговор.
Телеман усаживается на трибунах с ручкой и блокнотом, найденным в доме. Он закуривает сигарету, закрывает глаза, но появляется сторож с сообщением, что вся примыкающая к кортам территория уже два года как объявлена свободной от никотина. Европа катится чертям под хвост, думает Телеман. И европейский театр заодно.
Телеман смотрит на Хейди, которая играет против русской девочки. Она здорово играет. Русская. Телеман думает о том, что в России талантов отбирают года в три-четыре и взращивают, взращивают так, что они не видят в жизни ничего, кроме тенниса, а когда лет в восемнадцать-двадцать все же выясняется, что они не станут первыми ракетками мира, жизнь летит под откос. Хейди растет в иной культуре, ей будет куда отступать. В лучшем случае у нее будет много вариантов в запасе, в худшем — хотя бы пара. А все же есть что-то трусоватое в подобной заботе о запасном аэродроме. Так думает Телеман. Когда отступать некуда, тогда человек звереет, становится диким и опасным. Какими и должны быть примы, и в спорте, и в театре. Телеман уже почти отключился от всего вокруг, достиг того заветного состояния, когда разум уходит в свободный полет, порождая идеи. Ему знакомо это чувство. Он достает ручку, чтобы записать мысли о России, стороже и опасности, потому что все это очень театрально, из этого может получиться пьеса, но в глаза ему бросается идиотский логотип, проставленный вверху каждой страницы, «HAPPY TIME» голубенькими буквами. Черт возьми, вот говно! Ну как можно писать Пьесу на листах с «HAPPY TIME». Бадер в своем репертуаре — сдал дом с такой пакостью. В этом наци-инцестном поясе махровым цветом цветет отвратительная любовь ко всему миленькому. Хуже китча, чем здесь, нет нигде в мире. Телеман в гневе, ему приходится сделать несколько глубоких вдохов, чтобы хоть чуточку успокоиться. Так, надо записать и это — о китче. Что он существовал до нацизма. Что он вещь опасная. Но нужен другой блокнот. Он окликает Хейди, она отвлекается и пропускает мяч.