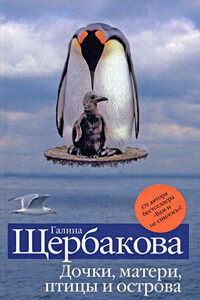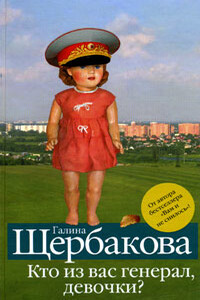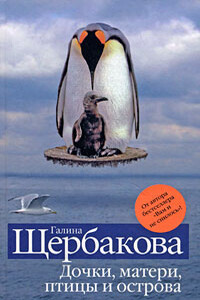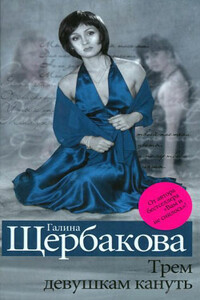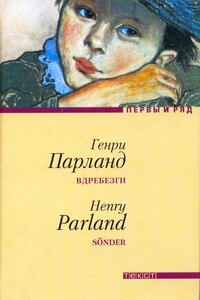На храмовой горе | страница 9
— Это не евреи, — возмутились в другом доме. — Мы так не можем.
Еще как можете, господа! Вы от нас приехали. Вы ж на подошвах что принесли? Вот именно…
— Их будут судить, — сказал мне мой приятель, — этих квартирных дел мастеров. Стоят пустые дома, но кто ж возьмет такую цену? А коммуналочка — она ничего не стоит…
Боюсь, в очень дорогую цену обойдутся Израилю коммуналки. Это ведь как тиф, всюду одинаковые последствия. И не идиоты они, чтобы этого не понимать. Почему и проходит это скорее тайно, чем открыто. В газетах об этой пересадке социалистической почки ни слова. Мне чуть глаза не выцарапала одна милая девушка, когда я ей об этом рассказала. Она так на меня закричала, что я подумала, а не приснилась ли мне комнатка, на пол которой мы поставили свечу, не приснились ли мне израильтяне-одесситы, выясняющие, не эфиопы ли мы. Не приснилась ли та электрическая лампочка, стоимость которой с ненавистью будут делить? Ах, дорогие мои! Бойтесь этой уверенности, что у вас не может быть плохого. Бойтесь собственного гнева, будто на вас наговаривают. Это нами проходимое, мы в этом жили… Впрочем, и живем пока.
Как это ни странно, но в этой недолгой поездке впечатлений у меня больше деревенских, чем городских. И это несмотря на то, что жила я недалеко от знаменитого на весь мир Вейцмановского научного центра. Гуляла возле него, пялилась… Но, скажите, удивила ли я бы кого-нибудь, поведав о хорошей жизни израильских ученых?
Из моего провинциального детства.
— Ну, скажи, скажи, ты у нас умная, почему это евреи не работают в шахте и колхозе?
Это даже не антисемитизм. Это какой-то больной вопрос жизни. Это как тайна чесотки. Шахта от школы — в трех шагах, колхоз — в трех километрах. Глинистая дорога на кладбище утрамбована шахтными грузовиками до полной каменности и даже отсвечивает мрамором. Она не остывает ни на день, не успевает осклизиться. Шахта дает уголь и трупы с завидным ритмом. Колхоз трупы не дает. Он тихо живет в балке. Тоже глиняной. В старшие классы к нам приходят оттуда девочки, и мы их не любим. Это девочки в чунях-галошах, плюшевых жакетках и платках вокруг шеи. От них пахнет коровником, и они плохо говорят по-русски — ха! Мы — горожанки говенные, из этой же глины, но мечтаем о театральном институте, в крайнем случае архитектурном. А девочки из колхоза мечтают о паспорте.
— Вот скажи, скажи, ты умная, почему евреев нету в шахте и колхозе?
А их там и нету! И вопрос зависает в невесомости на десятки лет.