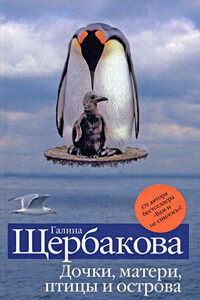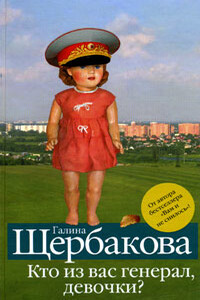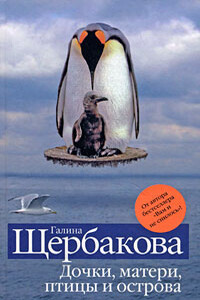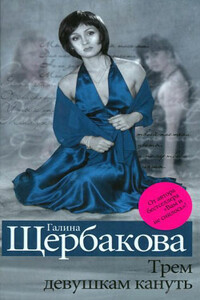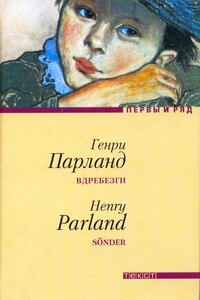На храмовой горе | страница 10
Теперь, уйдя далеко-далеко от той девочки, которой задавали вопросы на засыпку, я думаю о другом — об этом нашем уникальном свойстве разделить плохое поровну. «Господи, не пошли другому беды, что настигла меня», — это не русская молитва. Мы замираем в бездействии над невскопанной грядкой и недоенной коровой от одной мысли: вдруг кто-то в этот момент вкушает кофе на пуфике? Вспомните это беспрецедентное «а ты встань на мое место» продавщицы ученому, хотя никакими силами продавщицу из магазина не выковыряешь. Но она видит перед собой пуфик. Она его зрит.
Не важно, что делали и делают евреи. Важно, что в шахте и колхозе их не было. Значит, хитрованы они, значит, у них круговая порука, и вообще у них руки не оттуда растут.
Две позиции — хитрованы и круговая порука — я готова даже признать. Что есть, то есть. Но вот насчет растущих не оттуда рук…
Если бы вы видели их колхозы (для понятности так назовем кибуцы), то вы бы, простые читатели, заткнулись. Но мне даже не этого хочется, я сама читатель, и я люблю это племя. Мне хочется, чтоб заткнулась идеология — всякая и навсегда. Дело в том, что евреям предъявляется масштабный иск как по революции, так и по коллективизации. Они, мол, все это заварили. Об этом читать-то противно, не то что писать. Но вот допустим. Допустим. Коллективизацию действительно придумали бронштейны и рабиновичи. Именно они изнасиловали нашу деревню, оплодотворили ее негодным семенем, в результате чего родился монстр. Потому как несоединимая природа. Потому как конь и трепетная лань. (Почему только лань спокойно ложится подо всех? Но это антр ну.)
Когда у меня спрашивают, на что похож кибуц, я отвечаю без запинки: «На санаторий кремлевского Четвертого главного управления». Видимо, от скудости примеров для сравнений. Такая же чистота. Такие же стриженые газоны и разнофигурные кустарники. Сады камней. Увитая плющом (?) библиотека. На подоконнике небрежно раскрыта книга. Тургенев, «Записки охотника». «Бурмистр». Крест, святая икона!
Давно ли вы читали «Бурмистра»?
Я перечла, уже возвратясь. Что называется, для сюжета. Где-то там, на далеком берегу, лежит открытым Тургенев, я в Москве достаю его с полки, дую на корешок, ах ты, боже мой, как заметно, что давненько не брался в руки синий томик…
Со школьных лет от «Записок охотника» у меня ощущение какого-то обмана. С чего это именно «Записки» принято называть в числе лучших из лучших сочинений классики? Одно ведь из самых занудных. Вот «Дворянское гнездо», узнанное лет в двенадцать, потрясло же! На «Вешние воды» обратила мое внимание мама лет эдак в четырнадцать. И тоже замерло сердце. А «Записки охотника» сердца не трогали. Распелся барин от умиления. Над чем, господи? Возмущало какое-то сознательное непонимание чего-то важного, что понять было должно. Непременно должно.