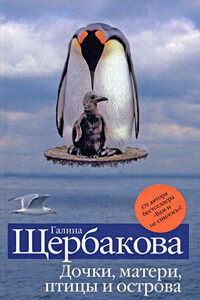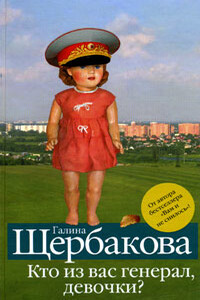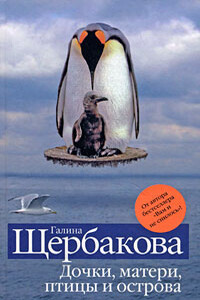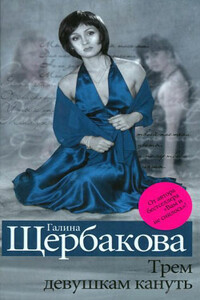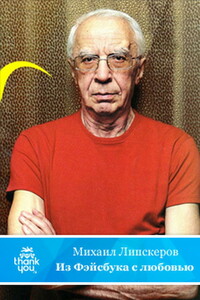На храмовой горе | страница 16
Мы признались с ней, что не чаяли, что это может быть с нами. Что никто никогда не видел столько хороших людей сразу. «Какие старики! — шептали мы. — Какие дети!»
— …дождь, — рассказывает мне незнакомая подруга, — а я в войлочных тапках. Стою, танки жду. Солдатик подходит. «Мать! Ты в себе? А ну-ка иди домой!» — «А ты пойдешь?» — «Мать! Ты в себе?» — «А я что — хуже тебя, хуже?» Ушел солдатик. Вернулся с фанеркой. «Стань, мать, сюда». Поднял меня и поставил на фанерку. Ну, думаю, теперь я этим танкам! С сухого-то места! Опять пришел солдатик. Надел на меня полиэтиленовый пакет. «Ты, — говорит, — мать в натуре». Теперь, думаю, всё. За таких сыночков можно умереть. А ну, танки, сюда! На меня! Я вас фанеркой и пакетом, забоитесь! Смех и слезы! Вы могли умереть за родину? Нет, скажите, вы могли бы?..
Преодолев мост, обнявшись и припав друг к другу, мы поклялись за эту родину и жить, и умереть.
Потому что лучше ее…
«Понимаете? Он искал фанерку!»
И мы плакали от счастья, что нам за все, за все — за довойну, войну и послевойну, за Ленина, за Сталина, за КГБ, за ГКЧП, за все наши страхи и грехи — Бог милостиво даровал Прозрение и Веру.
…Я знаю. В этот момент она тоже думает обо мне. Вдруг ей придет глупая мысль в голову, что я могла уехать навсегда? И она застынет в войлочных тапках посреди кухни, забросит за ухо прядь и скажет ближайшей кастрюле: «Мы же с ней вместе шли через мост. А кто прошел этот мост…» И засмеется, как девочка.
В отстойнике, уже оттуда… плакала женщина. «Паразит! Паразит! — объясняла она нам. — Он думает, что Кравчук лучше Шамира. Ему, видите ли, до зарезу надо на родину. Ему родного дерьма не хватает. Это можно понять?»
Люди молчали, люди думали свою мысль.
Мы все, пронзенные мыслью… Раненные ею.
Поэтому я решила ничего не писать об Израиле. Это еще когда он станет для нас просто местом для экскурсии. «Ах, Мертвое море! Ах, Вифлеем! Ах, апельсиновые рощи!» Это еще когда мы перестанем вздрагивать от информации, что и этот, оказывается, уезжает, а кто бы еще вчера мог подумать?..
Навсегда! Почти волшебное для нас слово. Одно и навсегда. И попробуй нас сдвинь. Или бабушка с клюшкой, как девушка с веслом. Или парень, бегущий от Шамира к Кравчуку. И надо выбрать позицию, с кем, мол, мы, мастера культуры, — с клюшкой или Кравчуком?
А так хочется быть ни с кем. Так хочется быть самим по себе и разделять только свое частное мнение.
Но это только кажется, что так можно. Нас качает совковое или — или. Мы больны одинарностью мышления. Хорошо, это я больна. Не обобщаю. Но Израиль вовсе не собирался помочь мне выбрать позицию. Он оказался всяким, разнообразным, противоречивым. В нем всего было до фига — от декоративно красивых овощей до снобистской спеси эмигрантов семидесятых. От полного раздрая сегодняшних олимов до величайшего покоя сердцевины Иерусалима, в котором я — элементарная частица человечества — ощутила собственное начало, собственный конец и собственную бесконечность. «Как?» — спросите. А я знаю, как? Просто стояла на Храмовой горе, на которой сроду не была, и точно знала, что была здесь, и белокаменный город — часть моей жизни, но и я — поди ж ты — часть его жизни, и у нас общее атомно-молекулярное строение, так это же и дурак — скажете вы — знает, но я ведь не про те атомы, которые в микроскопе, я про другие, из какой-то совсем другой физики… Что делать, если именно тут я шкурой поняла, что никуда отсюда не денусь, даже когда уеду, и так глупо, так бездарно выяснять отношения в бесконечности, дурее дела нет. И пришла простая, как мычание, мысль: все существует одновременно и навсегда.