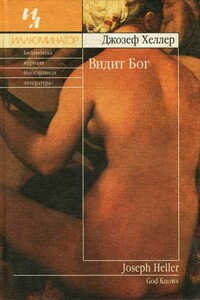Что-то случилось | страница 62
То ли она зла, то ли весела? Не помню. И не в силах понять. Надо быть начеку. Держа в руке крекер с анчоусом, наклоняюсь к ней чуть ближе и вдруг соображаю, что она и не зла, и не весела. В хороших ли отношениях мы с ней расстались, в плохих ли, сейчас для нее никакой разницы: она тоже это забыла.
Она опять пила, и по ее опущенным глазам, в которых прячется нерешительность, я понимаю: она тоже пытается вспомнить, друзья мы сегодня или нет. (А я-то что же – злюсь или веселюсь?) Она ждет, что я подам ей какой-то знак. (Злюсь я на нее, оттого что она что-то не то сказала или сделала, или доволен ею, потому что ничего такого не было?) Не понимаю, почему она так меня боится, ведь я сам так боюсь ее. Она сурова и насторожена, уже полна раскаяния (из-за чего? Бог весть) и натянута как струна, и, помешивая в кипящей кастрюле, надеется, что я не сержусь на нее за что-то, чего она не сказала и не сделала или, наоборот, что сказала и сделала и чего не может вспомнить. И смех и грех.
– Ты права, – говорю я, чтобы положить конец этой неопределенности.
– Насчет чего?
– Насчет Кейгла, – говорю я и, нарочно прихрамывая, делаю шаг. – Мы осушили вместе стаканчик-другой.
– Рада, что это привело тебя в хорошее настроение.
Служанка отводит глаза в сторону, боязливо прислушивается к нашему разговору. Мои опасения рассеялись, я подхожу к жене и небрежно целую ее в щеку. Жена робко поднимает голову, она еще не совсем успокоилась. От нее пахнет вином и дорогими духами.
– Хочешь есть? – спрашивает она.
– Захочу. Похоже, это вкусно.
– Будем надеяться.
Служанка скользит мимо нас – несет салат в столовую.
– Ну, как она на поверку? – спрашиваю я.
– Вполне, – говорит жена. – Я пробовала вино, – поспешно прибавляет она. – Решила потушить в вине куриную печенку. Ну и подумала: надо отведать, хорошее ли оно.
– Ну и как, хорошее?
– Ничего. – Она улыбается. – Хочешь попробовать?
– Я лучше выпью виски.
– А я еще вина.
– Дети в порядке?
– Да.
Начало, похоже, неплохое, и, чем черт не шутит, этот вечер дома может оказаться приятным. Жена заняла слегка оборонительную позицию (от этого нам обоим легче). Дети, слава Богу, не накинулись на меня со своими жалобами и требованиями. Дочь у себя в комнате, висит на телефоне. Сын – у себя, смотрит телевизор. (Я слышу, звук включен на всю катушку.) Их мало трогает, что я пришел, что папочка дома, и я несколько задет их равнодушием. Собака обрадовалась бы мне куда больше. Прислуга как будто еще покорна, как оно и полагается, и никаким черным бунтом пока не пахнет. (Мы хорошо ей платим, вежливы с ней, и в роли прислуги она, вероятно, стесняется меня куда меньше, чем я ее в роли хозяина. Мне не слишком уютно от того, что мы держим прислугу.) Дерека нет поблизости, не слышно его повизгиванья, хныканья, попыток разговаривать, и няня (вернее, воспитательница), которую мы теперь взяли для него, не топчется тут же и не меряет нас свирепым взглядом, словно мы сами виноваты, что он такой, словно мы этого хотели. (Работа ее, в сущности, состоит не в том, чтобы нянчить или воспитывать его, а в том, чтобы самой не показываться на глаза и по возможности не давать ему показываться на глаза, хотя взглянуть на него или посидеть рядом, когда он играет с ярко раскрашенной книжкой или с младенческой игрушкой, вовсе не противно.) Они предоставляют меня самому себе. Я пью виски. Жена – вино.