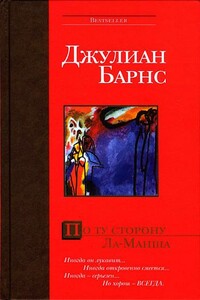Глядя на солнце | страница 35
— А бабушки много чего знают. — Он усмехнулся. — Спроси мою.
— Расскажите мне, как это — испугаться?
— Я же тебе сказал. Это значит сбежать. Быть трусом.
— Но как это внутри?
Проссер задумался. Он точно знал, как. Ему это снилось снова и снова.
— Ну, в чем-то это совсем как обычно. Руки дрожат, во рту пересыхает, в голове напряжение — ну, все это крепкие здоровые нервы перед вылетом. Обычно. А иногда — нет. Нормально маленькие признаки возникают, когда ты ждешь, ну а взлетишь, и они исчезают; а потом могут вернуться перед боем, но когда идешь на сближение, они опять исчезают. Да только иногда они никуда не деваются, даже если ты благополучно возвращаешься, и вот это скверный признак. И вот тогда ты начинаешь чувствовать страх.
Он помолчал, глядя на Джин. Она не отвела глаз, и он продолжал:
— Вот представь, ты проглотила что-то кислое, вроде уксуса. Представь, что чувствуешь его вкус не только во рту, а и дальше. Представь, что ты чувствуешь его вкус во рту, в глотке, в груди, в желудке. А теперь представь, как он медленно-медленно застывает у тебя между грудью и горлом. Медленно застывает. Каша из уксуса, и вкус ее повсюду. Кислый у тебя во рту. Сырое и дряблое у тебя в желудке. Застывает, как каша, между твоим горлом и грудью. Это значит, что ты не можешь доверять своему голосу. И вот иногда ты убеждаешь себя, что передатчик вышел из строя, а иногда ты убеждаешь себя, что связь прервана. Сжимаешь губы, и кислота стоит у тебя в горле. Половина твоего тела пропитана этой тошнотворной кислотой, и раз ты все время чувствуешь ее вкус, тебе кажется, будто ее можно вытошнить, избавиться от нее. Но ты не можешь. И она остается — холодная, и кислая, и застывающая, и ты понимаешь, что она никогда не исчезнет. Никогда. Потому что ей там самое место.
— Она может исчезнуть, — сказала она, чувствуя фальшивую бодрость своего голоса, будто она уверяла инвалида после ампутации, что его ноги скоро отрастут и станут как прежде.
— Дважды обжегшись, — ответил он негромко.
— А я уверена, что вы вернетесь, — продолжала она все тем же голосом больничной сестры. — И будете браконьерничать над аэродромами и всем остальным… И вообще.
— Это было раньше, — сказал Проссер. — Это было, когда все, куда ни глянь, вязали для войны. Помнишь?
— Мое вязанье все еще у меня. Я его так и не довязала.
— Ну да. Вязание для войны. Ненавидь гуннов. Отрази врага. Все так мило, чисто и ты счастлив. Ты думаешь, что можешь умереть, только это не кажется таким уж важным, и ты не думаешь, сколько еще это будет тянуться, ну и вообще. И в любом случае все было новым. И некоторые дни были словно лучшими днями твоей жизни.