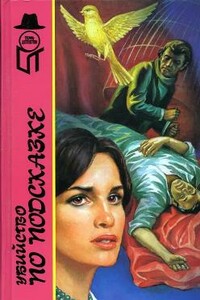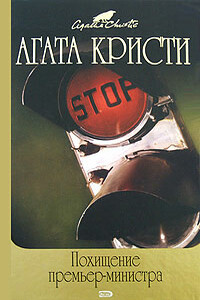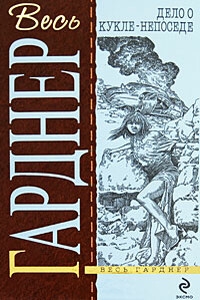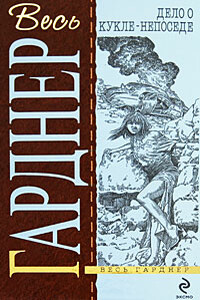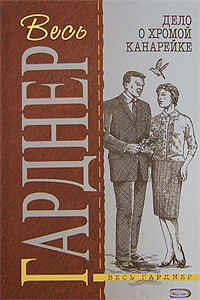Шаг в четвертое измерение | страница 71
— Какой цели? — переспросил я его.
— Любой цели, если только она заранее спланирована. Я верю в дисциплину ради самой дисциплины. Это очень хорошо для душевного равновесия. То, что вы называете свободой, — вредно для души, так как свободное волеизъявление — это опасное заблуждение, иллюзия. Вы знаете, что у спартанцев были такие же идеи. Спартанские дети жили группами, вдали от родителей, от своих семей. Их приучали вести трезвую, бережливую жизнь, драться безжалостно, даже красть, если нужно, и стоически переносить физическую боль. При соблюдении определенных религиозных обрядов некоторых из них засекали кнутом до смерти, но они при этом не издавали ни звука. Я никак не могу понять, почему столько ученых-классиков, которые пели дифирамбы спартанскому воспитанию, которое долгие годы было для них идеалом, вдруг повернули на сто восемьдесят градусов и начали обвинять нацистов за то, что они проводили в жизнь эти принципы в наше время!
Я молчал, вспоминая ничем не спровоцированную кровавую расправу, учиненную спартанскими юношами над завоеванным народом илотов, что для победителей стало просто спортивной игрой, а также о других извращенных вкусах, нарочно прививаемых им в этом самом оригинальном из всех обществ древнего мира. Мне все меньше нравилась догадка, что Блейн мог оказать влияние на Джонни.
— Мне говорят, что во всем мире дикари никогда не бьют детей, — продолжал развивать передо мной свои взгляды Блейн. — Но разве это доказывает, что цивилизация и дисциплина — это одно и то же? Только женщины распространяли идею, что сильный должен пощадить слабого, потому что они сами всегда были слабым полом. Из этого источника и исходит вся мутная белиберда о демократии и гуманизме.
Я уселся на жесткий стул с прямой спинкой и предался размышлениям о том, как мне выудить правду из этого человека, который углубился в дебри какой-то диссертации о древних спартанцах, когда ему задали несколько простых вопросов.
— Вы знаете Мориса Шарпантье, не так ли?
— Шарпантье? — переспросил он, и кожа на его наморщенном лбу задергалась, как у актера, словно он действительно предпринимал громадные усилия, чтобы все припомнить. — Ах да! Речь идет о молодом французском офицере, который пристал ко мне на улице в Риме. Он, конечно, более интеллигентен, чем большинство солдат. Он читал мои книги и узнал меня в лицо. Отчасти благодаря ему я оказался здесь, в этой глуши.
— Это он предложил вам сюда приехать?