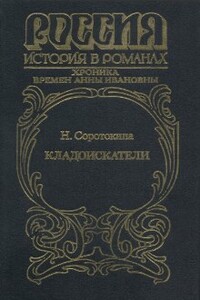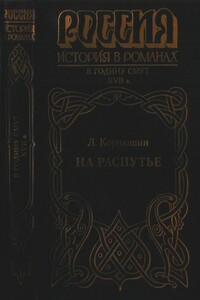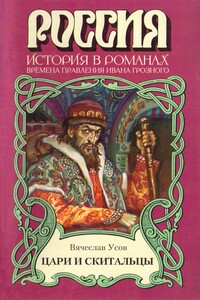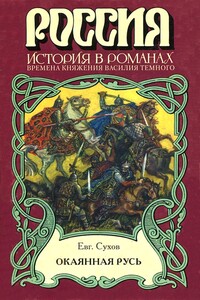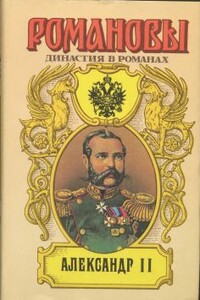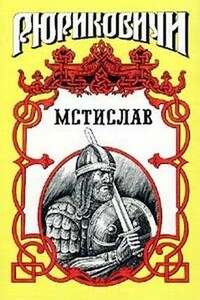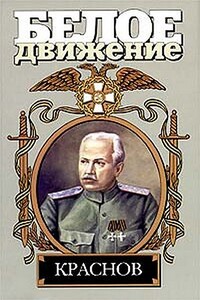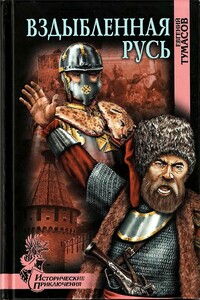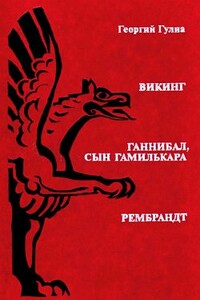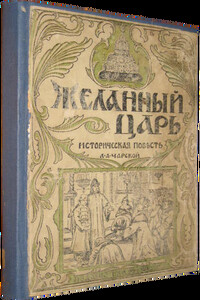Да будет воля твоя | страница 30
И еще узнали Артамошка с Федором, что со времен Ивана Грозного не платят клементьевцы подати в царскую казну и не отбывают государевы повинности, только держат в порядке стены и башни Троице-Сергиевой лавры, соборы и кельи да предоставляют телеги царским гонцам.
Через Клементьево шла главная дорога от Москвы до Студеного моря. До смуты это был бойкий путь. Ехали им люди всякого звания, с утра и допоздна шли по нему обозы на Москву, плелись богомольцы и нищие.
Клементьево открылось Артамошке и Федору сразу за лесом. Стены двухсаженные, каменные, неподалеку от села — грозные башни Троице-Сергиевой лавры, над ней вознеслись к небу позлащенные купола и кресты Троицкого собора и Духовской церкви. За монастырскими стенами — трапезная и поварня, больница и келарская палата. Между лаврой и Клементьевом — чистое, не поросшее камышом и кугой озеро.
Село и в самом деле оказалось большим. Церкви дощатые, избы добротные, рубленые, тесом крытые, будто и не коснулся Клементьева разор, охвативший Русскую землю.
От самого села и вдаль, насколько хватал глаз, щетинилось свежее жнивье, на гумнах перекликался люд, весело выстукивали цепа на току: крестьяне обмолачивали рожь. Давно забытым теплом пахнуло на Артамошку.
— Тут, Федор, и передохнем: авось приютят нас и работу дадут.
Мужик высадил их на окраине села, у крытой дерном кузницы. Прокопченные двери закрыты на засов, вход зарос травой.
— Нонешней весной кузнец наш помер, — сказал мужик с сожалением, — а селу без кузнеца ну никак нельзя. А может, кто из вас кузнечное ремесло разумеет?
— Маленько доводилось, — признался Акинфиев, — только, верно, разучился.
— Мил человек, раздувай горн, принимайся за дело и вспомнишь. Мы тебя миром попросим. Оставайся: вон изба, отворяй, живи…
В тот 1608 год князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому исполнилось тридцать лет. При Борисе Годунове он числился стряпчим с платьем>{18}, а в царствование Лжедимитрия был жалован в стольники>{19}.
Выше среднего роста, плечистый, с ясными голубыми глазами и русой бородой, Пожарский был ума завидного, отличался прямотой суждений и независимостью. Когда из Тушина к нему тайно пробрался перемет с письмом от самозванца, в котором тот звал его к себе на службу, напомнив, как князь был жалован царем Димитрием, Пожарский, отшвырнув грамоту, заявил резко:
— Я царю Димитрию служил, не отрицаю, но вору, какой навел на Русь иноземцев и попирает наше, российское, святое, не слуга…
Накануне повстречались Дмитрий Михайлович Пожарский и Михайло Васильевич Скопин-Шуйский. Оба отстояли вечерню в Успенском соборе, долго ходили по Кремлю, разговаривали откровенно — доверяли друг другу, знали: с доносом не побегут. И князя Дмитрия, и князя Михайлу заботила судьба Москвы и всей Русской земли.