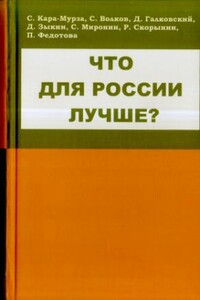Вырвать электроды из нашего мозга | страница 73
Однако в последние десятилетия, когда стали очевидными естественные пределы индустриальной экспансии, сама центральная идея индустриальной цивилизации стала предметом рефлексии и сомнений. Лидер Социнтерна Вилли Брандт писал: «Возможности, идеалы и условия того, что мы по традиции называем «прогрессом», претерпели глубокие модификации, превратившись в объект политических разногласий. Прогресс — в технической, экономической и социальной областях — и социальная политика все чаще и чаще оказываются не только в состоянии конкуренции друг с другом, но даже в оппозиции».
Как социал-демократ, Вилли Брандт делает акцент на том, что идея экспансии и прогресса пришла в противоречие с социальной политикой. В действительности дело обстоит гораздо сложнее — неразрывно связанные институты этой цивилизации (рыночная экономика, «атомизированная» демократия и рациональная наука) нуждаются в непрерывной экспансии в другие культуры (и даже в глубь человека). В период колониального господства казалось, что традиционные общества пали под ударами европейской цивилизации, но теперь видно, что процесс экспансии гораздо более длителен и болезнен. Все очевиднее, что продолжение политики перемалывания, растворения «отсталых» культур становится или не по силам, или сопряжено с опасностью мировых потрясений.
Сомнения у Вилли Брандта возникли в момент подъема последней волны неолиберализма, на гребне которой и проявились самые тяжелые симптомы нынешнего кризиса индустриализма. С некоторым запозданием это стимулировало изучение истории той науки, которая претендует на теоретическое осмысление самого способа производства — политэкономии. Науки, рожденной промышленной революцией (символично, что Адам Смит работал в одном университете с Джеймсом Уаттом).
Вспомнить основные вехи базовой модели политэкономии нам необходимо и потому, что кризис в России носит характер цивилизацнонного столкновения (современное общество — против традиционного). Речь идет о смене политэкономической модели, включая изменение целей производства, критериев оптимизации техносферы, социальных ограничений в организации.
С самого начала политэкономия заявила о себе как о части естественной науки, как о сфере познания, полностью свободной от моральных ограничений, от моральных ценностей. Начиная с Рикардо и Адама Смита она начала изучать экономические явления вне морального контекста (например, абстрагируясь от того, честно или нечестно получен капитал). Это — революционное изменение по сравнению с традиционным обществом, в котором универсальные этические ценности имеют нормативный характер для всех сфер (Ф. фон Хайек именно эту тенденцию назвал «дорогой к рабству»).