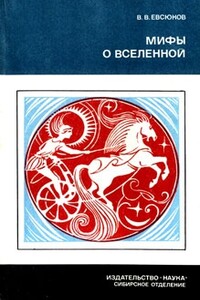Театр и ритуал | страница 6
В истории нашего коллектива были представления гротескные, не лишенные своеобразного юмора, но мы не играли спектаклей, вызывающих дешевую эйфорию, спектаклей, в которых каждый мог бы участвовать лишь своими наиболее примитивными, низменными инстинктами — не скажу «дикими», ибо это скорее понятие лестное, а хотелось бы сказать — инстинктами малого формата, то есть «постыдными», «конфузными» аспектами соучастия. В конце концов, и по сей день существуют такие разновидности оглупляющего церемониала: что-то от этого есть в корриде, что-то — в боксерских матчах, наконец — что-то в самом банальном, заурядном театре. Там можно достигнуть непосредственного участия благодаря своеобразной редукции, упрощению, и редукция эта фиксируется на столь низкой ступени, что мы уже имеем дело не со зрителем, а, как говорится, с «публикой», то есть с толпой. Законы, управляющие поведением толпы, вовсе не определяются поведением самых умных индивидов в этой толпе — как раз наоборот, этому учит нас психология. Следовательно, обращаясь к инстинктам ничтожного формата, можно в любом спектакле добиться непосредственного участия зрителей. Однако, все это уже было, и делать этого не стоило. Думалось, если мы хотим избежать религиозного ритуала и создать ритуал «мирской», то, пожалуй, нужно выйти на очную ставку с опытом минувших поколений, иначе говоря, с мифом.
Итак, в этот начальный период мы в каждом случае искали архетипичный образ (если уж пользоваться этой терминологией) в значении мифического образа вещей, или, точнее — их мифической формулы. К примеру, принесение в жертву личности ради общества (ради других людей), как в «Кордиане» Словацкого, или крестный путь Христа (миф Голгофы), наложенный на эпизод Великой Импровизации, как мы делали в «Дзядах» Мицкевича. Но у нас было не религиозное отношение к этим явлениям, а своего рода зачарованность мифом, и вместе с тем — противопоставление, противоположение себя ему, антиномия. Так мы стали прибегать к своего рода диалектике, которую один из польских критиков, Тадеуш Кудлинский, назвал "диалектикой апофеоза и осмеяния". Например, подлинное самопожертвование Кордиана и одновременно его безумие. Он приносит настоящую жертву, он проливает свою кровь ради других, но проливает ее согласно предписаниям дедовской медицины — Доктор просто «пускает» ему кровь. Была в этом солидарность с Кордианом и — грустная насмешка над неудачливостью борца-одиночки в любом деле; было обращение к корням и истокам, которые нас формируют, и — противоборство с ними.