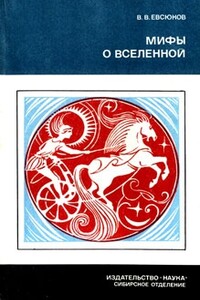Театр и ритуал | страница 5
Если же мы располагаем девственным пространством, тогда сам факт, что зритель либо «встроен» в спектакль, находясь с актером как бы в состоянии «диффузии», во взаимопроникновении, либо отдален от актера — сам этот факт приобретает многозначность и облегчает зрителю обретение присущего ему, врожденного состояния свидетеля.
А вот следующий вывод: если мы желаем погрузить зрителя в спектакль, в жестокую — если можно так сказать — партитуру спектакля, если мы хотим дать зрителям ощущение дистанции, «отъединенности» по отношению к актерам и даже больше того — хотим навязать им это ощущение, то в таком случае их надо с актерами перемешать.
Когда я говорю "жестокую партитуру", я имею в виду не внешние формы жестокости, вроде избиения (если это «ненатуральное» избиение, оно выглядит забавным, «натуральное» же избиение не входит в задачи театра), а ту жестокость, которая заключена единственно в том, чтобы не лгать. Ибо если мы не хотим лгать, если мы стараемся не лгать и если мы не лжем, то мы тут же, немедленно, становимся жестокими — это неизбежно.
Смешения актеров со зрителями мы добились в «Акрополе». Если в случае со "Стойким принцем" Кальдерона — Словацкого мы имели дело с непосредственным эмоциональным соучастием, когда зрители были прямо поставлены в положение свидетелей, то в случае с «Акрополем» — где зрители перемешаны с актерами — мы получили интересный результат: между теми и другими разверзлась пропасть. Актеры вьются вокруг зрителей, они пересекаются со зрителями в пространстве, но они не замечают зрителей. А если даже и замечают, то это остается без последствий — нет возможности контакта, здесь два разных мира. В «Акрополе» действительно два мира, ибо актеры предстают здесь отребьем — это человеческие останки, люди из Освенцима, мертвецы; зрители же — живые, они пришли в театр после хорошего ужина, чтобы принять участие в культурном церемониале. Эмоциональное взаимопроникновение здесь невозможно, и чтобы вырыть эту пропасть между двумя мирами, двумя действительностями, двумя типами человеческих реакций, требуется именно смешение их — вопреки видимой логике. Вывод этот очень существенен.
Проводя все эти наблюдения и исследования, мы, разумеется, старались установить, что могло бы послужить «осью» искомого ритуала. Это мог быть миф, а мог быть и архетип (согласно терминологии Юнга), или — если угодно — коллективное воображение или изначальная мысль, здесь можно прибегнуть к самым различным определениям. Поскольку, напомним, мы не стремились к воскрешению религиозного театра, наш опыт был скорее опытом «мирского» ритуала. Но во всех этих поисках мы избегали одного — возможности сотворения оглупляющего церемониала.