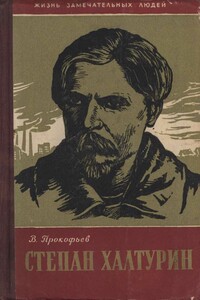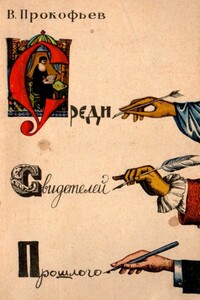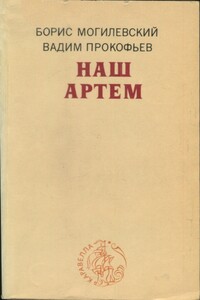Желябов | страница 47
Но если не сбылись надежды Желябова на то, что восстание славян поможет революционному воспитанию русского общества, он все же был удовлетворен: сербы и черногорцы, болгары и герцеговинцы добиваются успехов в борьбе за свободу и независимость.
Так проходил 1875 год.
Наступил 1876-й. Андрей мелькал в Одессе, уезжал в деревню и подолгу оставался там, занимаясь хозяйством. А хозяйничать он любил и умел. Ольга Семеновна акушерствовала, заботилась о сыне, которого в честь отца назвали также Андреем. Отец любил сына, но не баловал, хотя ему едва исполнилось два года. Он часто с улыбкой наблюдал, как карапуз, смешно переваливаясь с ноги на ногу, бесстрашно бродил среди сытых коней, которых заботливо выхаживал отец.
Кое-как наладились и отношения с Ольгой. После рождения сына она уже не искала шумных компаний, пьянящих аплодисментов. Андрей видел в ней доброго товарища, мать семейства, помощницу в работе. К семейным обязанностям Желябов относился серьезно, по-крестьянски.
Среди близких и добрых знакомых-односельчан Андрей не пытался пропагандировать, хотя его уважали, к мнению его прислушивались.
Желябову были ясны причины неудачи хождения в народ, провал «летучей пропаганды». И он, быть может, одним из первых, еще не осознавая того, начал новую страницу истории «народничества». «Народники», как стали именовать тех, кто ходил в народ, подумывали о длительных поселениях в деревнях для повседневной пропаганды.
Из Петербурга в Крым долетали скупые, нерадостные вести.
В революционной столице шла переоценка ценностей. Это привело к выработке новой народнической программы, к созданию фундамента первой народнической организации с элементами централизма.
В 1876 году закладывались основы общества «Земля и воля».
Главный тезис новой программы гласил, что революционная деятельность в народе должна отталкиваться не от теоретических формул, а «от присущих ему в данный момент отношений, стремлений и желаний». И на своем знамени новое общество должно написать самим народом осознанные идеалы.
Прежде всего, земля. Веками крестьянин поливал ее потом, кровью, слезами, а возросшим урожаем пользовался помещик. Он отобрал у крестьян землю и при «освобождении». А она — дар божий и должна принадлежать тем, кто трудится на ней. Земля — крестьянам, крестьянским общинам. Это осознанный народом идеал и бесспорное требование всех социалистических доктрин.
Народ должен в конце концов понять и свое бесправие, убедиться, что нечего ждать от царя, кроме плетей, штыков, ссылок, тюрем. Народ сам должен добывать себе лучшее будущее. Революционеры только способствуют пробуждению в крестьянине чувств гражданина. Для этого нужно жить в народе, пользоваться его доверием, каждый день соприкасаться с крестьянским бытом, устранять из него водку, подкуп, защищать права бедноты, оттеснять мироедов, поднимать значение мирской сходки, развивать в крестьянах дух самоуважения и протеста. Народ еще не осознал необходимости для него подлинной воли, но к ней он тянется стихийно. И ее написали на знамени. Воля — разве не к этому сведены все социалистические учения?