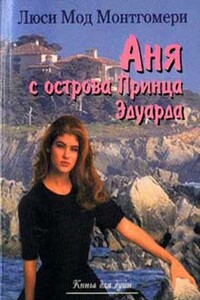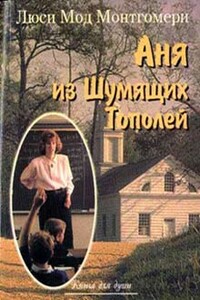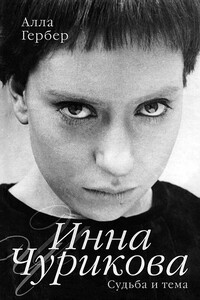Мама и папа | страница 13
Поезд, точно сдвинутый стоном тех, кто провожал, сотрясаемый криком тех, кто уезжал, не поехал, а поплыл, оставляя на берегу любимый город и самого любимого на земле человека. Бежать за поездом, как обычно — наперегонки с поездом, папа не мог. Толпа захватила его, оттеснила, надолго отбросив от нас, от прежней жизни, от пахучего мирного дома. В руках мамы остался растерзанный букетик и маленький пакет в фирменной бумаге Мосторга на Петровке. Когда наконец мы устроились на боковой скамейке рядом с двумя зареванными мальчишками и толстой, обернутой в две шубы женщиной, —только тогда мама вспомнила о пакете. Смущенно оглянувшись по сторонам, как будто боясь, что содержимое пакета может обидеть соседей, мама, отвернувшись, надорвала бумагу... В пакете оказалась красная коробочка, выглядевшая вызывающе своей мирностью, своей душистой непричастностью ни к этому зловонному вагону, ни тем более к тем событиям, которые назывались в сводках "Немцы под Москвой" и которые гнали нас неизвестно куда, и, кто знает, может быть, навсегда. Но словно всем бедам вопреки в коробке золотился флакон любимых маминых духов "Красная Москва".
А когда через два года мы вернулись домой, нас встретил резкий парикмахерский дух одеколона "Шипр", полоснувший чужим, враждебным миром. В нашей квартире, в бывшей нашей комнате, где когда-то сверкала, упираясь в потолок, елка, где за длинным, раздвижным на три доски дубовым столом по праздникам садилось не меньше тридцати человек, где на блестящем паркете папа учил меня танцевать вальс-бостон... В нашей комнате, которая помнила столько смеха, шуток, гостей, театров, маскарадов... В нашей комнате, где на стенах висели портреты бабушек и дедушек, а в книжном шкафу, еще не тронутые мною, стояли те книги, которые мне предстояло прочесть, и те, которые читали с детства... В нашей комнате, где после скарлатины, закутанная в платок, съежившись в комочек на диване, я слушала папину любимую песню про черного бэби и не могла представить себе, что, если верить песне, отец и мать могут оказаться в чужом краю... В нашей комнате поселился толстый, с гнилыми зубами человек, который доказал мне, что — могут.
Этот человек никогда не мылся. Какой-то шутник, наверно, в отместку за "добрые" дела, убедил его, что вода "высушивает" легкие. Его образования хватило как раз на то, чтобы в это поверить. Он был герой прошлого, как выяснилось в будущем, — фиктивный. А в настоящем — управдом. Пока папа делал для фронта "катюши", а мама таскала на заводе опилки, он, воспользовавшись нашей задолженностью за квартиру (не до того было), самовольно вселился в комнату, которая ему, всесильному управдому, имела несчастье понравиться. Нам милостиво оставил вторую, поменьше, — шестнадцать метров. Борьба за возвращение нашей бывшей комнаты стоила папе семи лет жизни вне дома. Своей упорной тяжбой за правду отец утомил "героя". Сочинив очередной донос, с помощью которых он, по-видимому, не впервые освобождался от неугодных ему людей, управдом избавился и от докучливого соседа. Тогда, конечно, мы этого не знали, как не знали, что папа прямо из Москвы только ему ведомым путем собирался перейти границу... государства Израиль, чтобы стать там... министром иностранных дел. Папа посоветовал следователю для большего правдоподобия сделать его, по крайней мере, министром тяжелой промышленности. Впрочем, согласно приговору, еще до перехода границы папа вместе с другими членами некой антисоветской сионистской организации, которую возглавляли якобы Эренбург и Михоэлс, "намеревался нанести удар в спину Советской власти и лично товарищу Сталину".