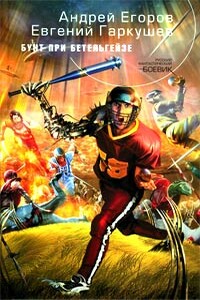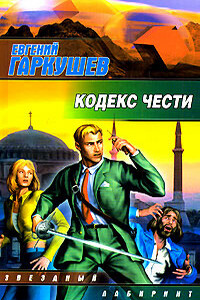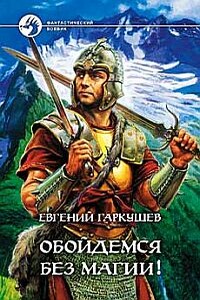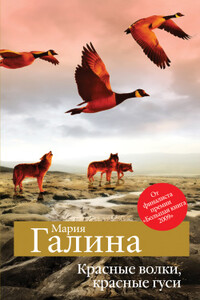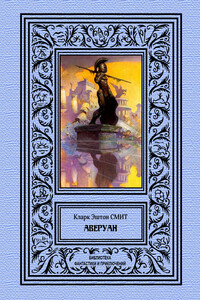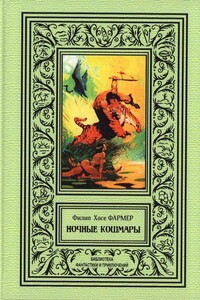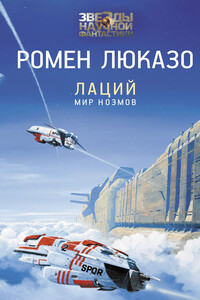«Если», 2009 № 09 (199) | страница 61
— Не жалко?
Он подумал.
Считается, что они приносят вред, — сказал он наконец, — бьют полезных мелких птиц. А ягнятник, понятное дело... На самом деле они охотятся за грызунами, мышами, сусликами... Они союзники человека. Так что — да, жалко. А что делать? У меня заказ. Это ради науки, — повторил он беспомощно.
У ваших ученых нет сердца. Знаете, — она вздохнула, — воля ваша, а вам честно скажу, никогда не любила Тургенева. Есть в нем что-то... фальшивое. Россию он любил? Приезжал летом поохотиться. Разве это любовь? Так, потешить ретивое. А жил во Франции, с этой... Чтобы Россию любить, в ней надо жить зимой, когда сугробы по обе стороны улицы в человечий рост, когда в Питере небо черное, пустое небо, страшное, а с него белый снег сыплется. А утром! Продышишь в окошке глазок, смотришь на улицу... там все розовое, синее... снег сверкает, как бертолетова соль. И золотые купола на розовом небе!
Она сердито тряхнула головой, в глазах стояли слезы.
— Я поговорю с детьми, — сказала она, — быть может, они знают, где ваш красный гусь. Тут неподалеку есть заповедное озеро, слышали?
«Именно от Веры Алексеевны, которая, как выяснилось в нашей беседе, была сослана сюда царскими жандармами за участие в революционной деятельности, я узнал, что поблизости есть заповедное озеро, на котором могли водиться самые разные животные, в том числе и редкие виды птиц. Эти края еще малоизученны, и многие уголки не нанесены на карту, поэтому кроки, которые были у меня с собой, давали весьма приблизительное представление о местном ландшафте. Неудивительно, что я с удовольствием принял предложение воспользоваться услугами проводника — на эту роль вызвался ученик Веры Алексеевны Ахмат, благодаря ее стараниям неплохо владевший русским языком и даже цитировавший Пушкина. Просто удивительно, как местные молодые люди тянутся к знаниям большого мира: Ахмат жадно расспрашивал о Москве, о достижениях науки и техники, особенно его поражали мои рассказы об успехах авиации; его привлекала сама мысль, что люди могут летать «как птицы».
Дорога к озеру оказалась и вправду нелегкой, хотя шла под уклон. Она вилась сначала по узкой горной тропке, потом по дну ущелья, где сейчас, в самый полдень, воздух, казалось, застыл, как стекло. Следуя вдоль ручейка, змейкой извивавшегося в расселине, я вглядывался в каждый кустик, в каждую трещину — жизнь не замирала и здесь: по склонам кричали горные куропатки, перелетали с места на место саджи — крупные, размером с голубя, птицы, которых за странную форму лапок называют «копытками», у своих норок столбиками стояли сурки. Мой юный проводник беспечно шел рядом, время от времени подпрыгивая от избытка той беспричинной радости, которая отличает детей и молодых животных; однако он не забывал об осторожности: выломав из кустарника длинную ветку, он хлестал ею по жестким зарослям перед собой.