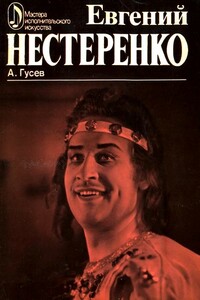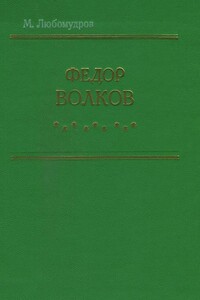Режиссер наедине с пьесой | страница 18
Своего письма Владимир Иванович не отправил. Не отправил, вероятно, потому, что чувствовал, что был и прав и не прав. Прав в том, что опасность вытеснения из театра "алгебры и геометрии" "арифметикой" была в страстных, неукротимых, и потому неизбежно полемических поисках Станиславского. Но совсем не потому, что Станиславский хотел этого - вот тут Немирович был не прав. "Жизнь человеческого духа" - вот ведь ради чего самозабвенно искал, трудился, мучился гениальный Станиславский. Но овладеть этим трудно, очень трудно. Даже таланту. Посредственность же ухватывалась за то, что полегче, попроще - за технические приемы Станиславского, возводя их в ранг конечной цели. Это укрепилось в театре и в театральной школе, потому и пугало Станиславского, когда его поиски, пробы выносились за стены МХАТа и творческой лаборатории в Леонтьевском переулке, преподавались как "система Станиславского".
Упрощение и опрощение учения Станиславского, как мне кажется, набирает обороты. Он сам, правда, говорил о том, что его учение надо развивать, продолжать, что он только заложил основы, которые нуждаются в дальнейшей разработке. Действительно, такая разработка велась и ведется ныне. Имеются, безусловно, позитивные плоды ее. К их числу следует отнести книги А.Д. Попова, М.О. Кнебель, А.В. Эфроса, Г.А. Товстоногова, О.Я. Ремеза, исследования М.Н. Строевой, Н.А. Крымовой, В.Б. Блока. Эти работы в основном направлены не на пересказы того, что написано Станиславским, их авторы - режиссеры, педагоги и театроведы - озабочены тем, чтобы с современных позиций осмыслить не букву, а дух, самую сущность учения великого Мастера и, сколь возможно, продвигать их дальше. Но доминируют все же книжки, статьи, диссертации, буксующие на вопросах технологии, терминологии, достаточно путанных и произвольных объяснениях терминов, которыми пользовался и не пользовался Станиславский. Результат их - полная неразбериха и разнобой в истолковании практиками театра понятий и терминологии, что очень наглядно раскрыто Г.А. Товстоноговым в его последней книге "Беседы с коллегами" в записях работы с периферийными режиссерами в творческой лаборатории. Все эти споры, разночтения и терминологическая неразбериха вертятся вокруг технологии, обходя самый сущностный, коренной вопрос духовного содержания учения Станиславского. А уж когда как не сейчас, в наше, ставшее удручающе бездуховным, время, именно эта стороны его школы должна была бы лечь в основу всех новейших поисков, исследований, да и самой практики и театра, и педагогики.