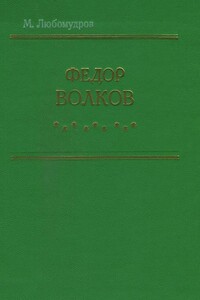О пластической композиции спектакля | страница 6
Открытием этой закономерности мы обязаны Алексею Дмитриевичу Попову — более чем кто-либо другой, он исследовал процесс композиционного творчества в режиссуре; да и рождением самого термина «пластическое воображение» мы обязаны ему же. В 1959 году он писал: «Искусство мизансцены заключено в особой способности режиссера мыслить пластическими образами, когда он как бы видит все действия пьесы выраженными пластически, через актеров. Спектакль обретает свою художественную заразительность и силу через определенную стилистику мизансцен, верно выражающих мысль, через их характер, графический рисунок, через темпо-ритм их движения... Но видеть все действия пьесы в живой пластике для режиссера мало, ему приходится овладевать законами лепки не только отдельных фигур, но и больших человеческих масс. Это искусство полностью определяется особыми качествами композиционного дарования режиссера. Без этого дара вообще нельзя из множества деталей и частностей построить целое художественное произведение, то есть спектакль» (5).
Доказательством же истинности данного открытия служит практически все творчество А. Д. Попова. Достаточно напомнить пролог к спектаклю «Ромео и Джульетта», где самый идейнохудожественный замысел постановки был выражен в пластической форме: неизвестный «юноша в красном» стремительно появлялся на сцене, чтобы столь же стремительно погибнуть в бою, не успев даже узнать причину вооруженной схватки.
Как способность врожденная, т. е. свойственная одному определенному человеку от рождения, пластическое воображение содержит отпечаток всей человеческой биографии режиссера, его жизненного опыта и внетеатральных впечатлений. Оно способно «перерабатывать», превращать в пластический образ самые на первый взгляд неожиданные «исходные материалы». При этом режиссер, создавая некий пластический образ, может и не осознавать его происхождения. Пояснить данное утверждение (и, может быть, доказать его) поможет конкретный пример пластического решения режиссером Л. Е. Хейфецем спектакля «Тайное общество», поставленного на «большой» сцене Театра Армии в 1968 гоДУПьеса А. Маневича и Г. Шпаликова, переделанная из киносценария, состояла из множества эпизодов, сменявших друг друга, как в калейдоскопе, а это всегда создает постановочные трудюсти. Здесь же трудность усугублялась огромными размерами сценической площадки Театра Армии. До сих пор считалось, что в таких случаях есть только один выход — использовать вращение круга (благо, что в данном театре даже не один крут, а целая система кругов). Но Л. Е. Хейфец и художник И. Г. Сумбаташвили предложили неожиданное решение, которое поначалу у многих вызвало недоумение. Они не стали дробить огромную сцену на части с помощью станков и выгородок. Наоборот, они открыли ее на всю глубину и ширину, замкнув ее пространство с боков сплошными плоскостями (существовавшие в них прорези для актерских выходов не просматривались из зрительного зала); плоскости в перспективе уходили от портала к заднику; а сверху это пространство перекрыли наклонным плафоном с фигурой распятого Христа, расположенной головой к авансцене, ногами в сторону задника. В оформлении не было ни единого пандуса, никаких площадок и лестниц, столь любезных сердцу любого постановщика — был ровный, плоский, пустой планшет сцены. Образовался туннель, квадратный в сечении, сужающийся от портала к заднику. Многие режиссеры пришли бы в отчаяние при мысли, что нужно мизансценировать спектакль в таком оформлении... Но именно такое оформление отвечало замыслу Л. Е. Хейфеца. Пьеса была о декабристах, об их безрассудном восстании и горьком поражении, и хотя самые события на Сенатской площади оставались за пределами сцены, — в пластическом воображении режиссера возникла форма каре — военного строя мятежных полков... Эта форма сказалась и в «квадратном сечении» сценического пространства, и в рисунке мизансцен, отмеченных признаками «геометричности»: так, спектакль начинался появлением царского адъютанта, который четким парадным шагом пересекал сцену по диагонали — от левой стороны задника к правой стороне портала, — и его шаги в гулкой пустоте сцены звучали, как барабанный бой. И вся пластика спектакля развивалась по тем же необычным, «геометрическим» законам: каре заявляло о себе постоянно и везде — даже в покоях императрицы, когда поддавшийся панике Николай I заметался по сторонам некоего воображаемого квадрата, делая строевой поворот на каждом углу, хотя границы этого квадрата существовали только в смятенном сознании царя, ищущего и нигде не находящего спасительного выхода. Точно так же темпо-ритм действия, заданный первыми шагами адъютанта, выдерживался на протяжении всего спектакля; и созданное им внутреннее напряжение помогло собрать все многочисленные короткие эпизоды пьесы в одну впечатляющую картину трагических событий.