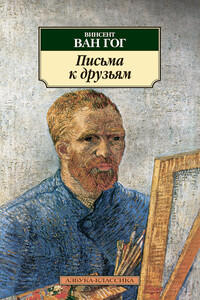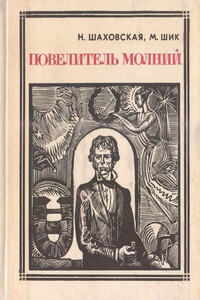Письма | страница 60
перепуталось, и другого выхода нет…
Я, как тебе, наверно, известно, возвратился в Боринаж. Отец уговаривал меня остаться
где-нибудь по соседству с Эттеном, но я сказал «нет» и думаю, что поступил правильно.
Невольно я стал для семьи личностью более или менее подозрительной, человеком, на которого
нельзя положиться; так как же я могу после этого быть хоть в чем-то кому-нибудь полезен?
Поэтому я склонен полагать, что полезнее всего, что самый лучший выход и самое
разумное для меня решение – уехать и держаться на приличном расстоянии, словно меня и не
существует…
Я – человек одержимый, способный и обреченный на более или менее безрассудные
поступки, в которых мне приходится потом более или менее горько раскаиваться. Мне часто
случается говорить или действовать чересчур поспешно там, где следовало бы набраться
терпения и выждать. Думаю, впрочем, что другие также не застрахованы от подобных
оплошностей.
Но раз это так, что же делать? Следует ли мне считать себя человеком опасным и пи на
что не способным? Не думаю. Надо просто попробовать любыми средствами извлечь из своих
страстей пользу. Назову, например, одну из них – у меня почти непреодолимая тяга к книгам, и
я испытываю постоянную потребность заниматься своим образованием, учиться, если хотите,
подобно тому как я испытываю потребность в пище. Ты в состоянии это понять. Находясь в
другом окружении, в окружении картин и произведений искусства, я, как ты хорошо знаешь,
воспылал к ним неистовой, доходящей до исступления любовью. Не раскаиваюсь в этом и
сейчас. Вдали от родины я тоскую по ней именно потому, что она – страна картин.
Как ты, может быть, помнишь, я хорошо знал (а возможно, знаю и сейчас), что такое
Рембрандт, что такое Милле, Жюль Дюпре, Делакруа, Миллес или М. Марио. Пусть у меня
теперь больше нет этого окружения, однако существует нечто, называемое душой, и, говорят,
она никогда не умирает, вечно живет и вечно ищет, вечно, вечно и еще раз вечно. Так вот, я не
стал чахнуть с тоски по родине, а сказал себе: «Родина, отечество – повсюду». Я не впал в
отчаяние, а избрал своим уделом деятельную печаль, поскольку имел возможность действовать;
иными словами, я предпочел печаль, которая надеется, стремится, ищет, печали мрачной,
косной и безысходной. Я более или менее основательно изучил книги, которые были в моем
распоряжении – например, Библию и «Французскую революцию» Мишле; затем, прошлой
зимой, Шекспира, кое-что из В. Гюго и Диккенса, Бичер Стоу; и совсем недавно – Эсхила и