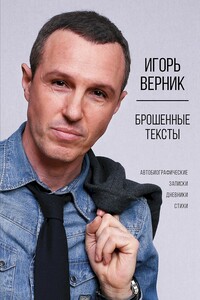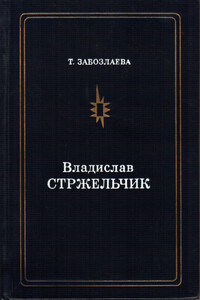Пустое пространство | страница 18
Тот, кто из года в год смотрит спектакли, которые пользуются большим успехом, замечает необычайно любопытное явление. Казалось бы, так называемый «гвоздь сезона» должен быть темпераментнее, динамичнее и ярче, чем спектакль-неудачник, однако это не всегда так. Почти каждый сезон в большинстве городов, где любят театр, с огромным успехом идет спектакль, опровергающий это правило, то есть спектакль, который привлекает зрителей не тем, что на нем не поскучаешь, а как раз тем, что он даст возможность поскучать. Дело в том, что «культурность» обычно связывается с неким чувством долга, а исторические костюмы и длинные речи— с ощущением скуки, поэтому, как ни странно, определенная порция скуки является гарантией значительности события. Конечно, дозировка в этом случае является столь деликатным делом, что предложить готовый рецепт совершенно невозможно: стоит переборщить — и публика убежит из зала, стоит недодать — и зрители решат, что тема утомительно серьезна, Тем не менее средние драматурги безошибочно находят совершенные пропорции и поддерживают жизнь Неживого театра с помощью тоскливых успехов, высыпающих единодушное одобрение. Зрители ищут в театре что-то, о чем они могут сказать: «Лучше, чем в жизни», поэтому они с такой легкостью смешивают «культурность» или внешние атрибуты культуры с тем, чего они не знают, но что, по их смутным представлениям, могло бы существовать, и в результате способствуют успеху плохих спектаклей, трагически обманывая самих себя.
Поскольку мы употребляем слово «неживой», следует заметить, что разница между живым и неживым, столь безусловная, когда дело касается человека, совсем не так очевидна, когда речь идет о явлениях другого плана. Врач мгновенно уловит легчайшее дуновение жизни в самом изможденном человеке и отличит его от трупа, который жизнь уже покинула; но мы почти не в состоянии заметить, когда полнокровная идея, трактовка или форма вдруг становятся нежизнеспособными. В этом случае трудно провести четкую границу, однако даже ребенок инстинктивно чувствует разницу. Я хотел бы привести один пример.
Во Франции существуют две мертвые традиции исполнения классической трагедии. Одна — старая, она требует от актера особого голоса, особой пластики, благородной внешности и торжественного напевного исполнения. Вторая традиция — всего лишь менее последовательный вариант первой. Царственные жесты и королевские добродетели играют все меньшую роль в повседневной жизни, поэтому каждому следующему поколению величественные позы кажутся все более и более искусственными и бессмысленными. Это заставляет молодого актера раздраженно и нетерпеливо стремиться к тому, что он называет правдой. Ему хочется произносить стихи более естественно, хочется, чтобы они действительно походили па человеческую речь, но он скоро убеждается, что необычайная строгость классической формы несовместима с его толкованием. Он делает неловкие попытки пойти на компромисс, и в результате в его исполнении нет ни свежести обычной речи, ни того откровенного лицедейства, которое мы называем дурной театральностью. Его игра беспомощна, а так как театральность притягательна, о ней вспоминают не без сожаления. В конце концов кто-нибудь обязательно потребует, чтобы трагедию слова играли, «как она написана». Требование справедливое, но, к сожалению, печатное слово говорит только о том, что было написано на бумаге, оно не в силах рассказать, что вызвало его к жизни. В нашем распоряжении нет ни пластинок, ни магнитофонных записей — только специалисты, но ни один из них не располагает сведениями из первых рук. Настоящее старое искусство исчезло, до нас дошла лишь подделка — традиционная игра актеров, придерживающихся старых традиций, но сами актеры черпают вдохновение не из подлинных источников, а из мнимых, таких, как воспоминание о мелодии речи более пожилого актера, который в свою очередь перенял ее у своего предшественника.