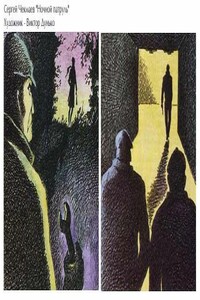Пречистое Поле | страница 56
— Да пристрелить его, суку, и прикопать. Вот будут рассусоливать, что да как.
— Правда что. Он в нас крыл — не жалел.
— В поле?
— Прибить бы можно, да поле гадить…
Потом пречистопольцы подняли глаза и пристальнее стали всматриваться в лица солдат, в плотно сомкнутые рты, обведенные серовато-грязными потеками от высохшего пота, в изгибы То ли запыленных, то ли выгоревших бровей. Кое-кто уже узнал в тех изгибах и морщинах родное и пошел, расталкивая толпу, навстречу. И через минуту в поле чуть в стороне от большака вихрем поднялся и закружился, втягивая в себя все окрестное, такой стон и крик» какого здесь испокон веков земля, быть может, и не слышала.
В Пречистое Поле взвод вошел строем, как и полагается воинскому формированию на марше. Вот только песню не пели, не до песни было. Пропылил до центра села, где когда-то стояла церковь Всех Мучеников, а теперь лишь бугрилась рыжая от кирпичной крошки земля, кое-где поросшая конским щавелём да полынью, остановился возле ракит, составил винтовки в козлы, по шесть. Возле козел был выставлен часовой. А остальные разошлись по селу, по родным дворам и усадьбам. У кого что осталось. К чему или к кому можно было идти, туда и шли.
Глава шестая. В ЧЕРНОБЫЛЬНИКЕ
Иван Шумовой снял с чердака несколько тесин, отнес их к верстаку, поточил о наждачный круг лёзгу, заправил ее в рубанок и сделал несколько пробных застругов. Тес был сухой, лежал долго, сосна — такой строгать хорошо. Такой тес строгать — не работать, а отдыхать. Но теперешняя работа не радовала Ивана Шумового. Врямя от времени он откладывал рубанок в сторону и, прижмурив один глаз, прикидывал, ладно ли будет.
Григорий сидел поодаль, под старой рябиной, привалившись плечом к ее стволу, будто обтянутому глянцевой свинцово-серой кожурой. Он уронил одну руку на землю раскрытой ладонью вверх и смотрел куда-то бессмысленно и тупо.
— Так-то оно вот, — не выдержал молчания Иван Шумовой, — живешь, живешь… А доски хороши. Ладный дом Павле состроим. Не осерчает. Да она никогда и не серчала на меня. Соседями мы с нею были смирными, незлобными друг на дружку. Я-то что, я ж в основном поговорить любитель. Но особо не надоедал. А она, бывало, стоит вон там, на калитке, и слухает. Молчит. Молчала все. Редкое словечко какое скажет. Это я, старый балабон, всё молотю языком, молотю, молотю… Ну, н выпить я другой раз заходил. Что было, то было. Это ж как загорится внутрях, кидай все, штыки в землю. У ней всегда в шкапчике четверточка стояла. Про запас. Оно ведь как при нынешнем порядке: за деньги, к примеру, дрова не повезут, и не подходи, огород тоже не станут пахать — бутылку надо. Я у ней этот энзэ сегодня, к примеру, разорю досуха, а назавтра опять на место поставлю. Честь по чести. Там, в этом… в шкапчике, может, и теперь что стоит. Слышь, Григорий? Не слышишь… А, ну ладно. Это я так. Потом помянем. А что ж, и помогали друг дружке другой раз. Сыны мои, кобели чертовы, по державе разъехалась. Один на севере, другой на юге. Держава-то наша российская, ой, брат, велика! Девка замужем, мужик военный, капитан, скоро, пишет, майора присвоют. Всё, знаешь, по гарнизонам. А по мне так: бездомное ихнее житье. И у сынов, и у дочки. Бабка-то моя померла. Бабка моя из Ковалевкн была. Взял я ее из Ковалевки. Я на ней после войны женился. Может, знаешь, Зинка Поличенкова? Это в девках — Поличенкова.