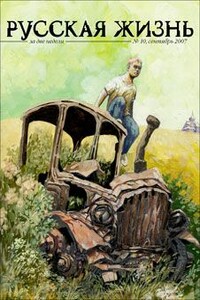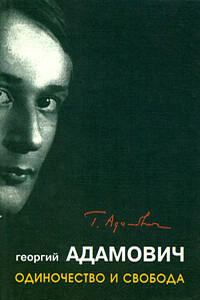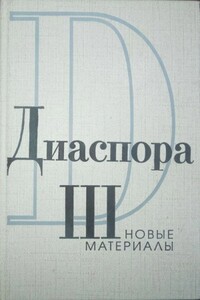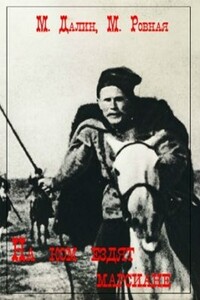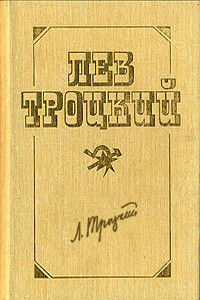Невозможность поэзии | страница 32
Потом была революция, «Скифы», «Двенадцать» — самое знаменитое из произведений Блока, а по распространенному мнению, и самое значительное. Над тем, что эта поэма значит и как следует истолковать появление Христа в заключительных строках ее, бьются люди до сих пор: бьются и спорят. Каждое толкование по-своему законно, хотя ни одно из них не исключает возможности другого, — и еще раз скажу: Блок не был бы поэтом, если бы дело обстояло иначе. О «Медном всаднике» было ведь тоже немало споров, однако и до сих пор твердо не решено, направлена ли поэма к вящей славе «державца полумира» или к скрытому осуждению его.
Вспомнил я о «Медном всаднике» не совсем случайно. При появлении «Двенадцати» блоковскую поэму сравнивали с пушкинской и без колебаний приписывали ей одинаковое значение в нашей литературе. Было действительно в ней что-то опьяняющее, затруднявшее беспристрастный анализ — кто же станет это отрицать? Откровенно признаюсь, что и мне в те годы параллель «Медный всадник» — «Двенадцать» не казалась преувеличенной, а если я об этом упоминаю, то лишь для того, чтобы избежать подтасовки фактов во всем знакомом жанре: «я всегда утверждал», «я и тогда предвидел» и так далее.
Но поэма выдохлась. Она насыщена злободневностью и потому увяла, обветшала. В ней нет, — как бывало в лучших стихах Блока, — второго подводного течения, не говоря уже о волнах таинственной и вещей музыки, поднимавшейся когда-то из глубин его сознания. Все ясно, нечего перечитывать. Остроумно, в особенности начало, но как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо, и как еще раз не вспомнить Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво!». Это сказано на веки веков, это должны бы усвоить, как абсолютную истину, все поэты, хотя это и вовсе не значит, конечно, что стихи следует писать в духе ломоносовских од. Нет, это значит… в сущности, это значит именно то, что Блок всем своим умом и сердцем знал, чувствовал раньше, до «Двенадцати». Христос в конце, «в белом венчике из роз»… об этом и говорить тягостно: не кощунство в обычном смысле слова, не политическая ошибка, а образ невозможный, мучительно-легковесный и фальшивый, — потому что нельзя же Христом пользоваться для литературного эффекта! А здесь именно эффект, под занавес. Блок ужасно волновался перед смертью, с содроганием вспоминал «Двенадцать» и даже в бреду говорил о них. Уверен, что не только политические сомнения терзали его, не брань былых друзей, не одобрение друзей новых, а то — и даже главным образом то, — что было грехом на его художнической совести. Слишком глубоко было у него сознание ответственности поэта за каждое слово, чтобы оплошность столь грандиозная и столько «малых сих» соблазнившая, столько откликов вызвавшая, не представлялась ему тяжким, непростительным преступлением.