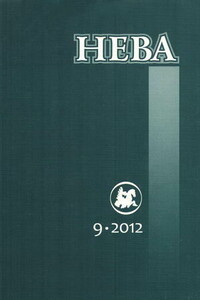Женского рода | страница 17
— Чего ломишься, пацан? Сюда никто не опаздывает! — Рэй сделала шаг назад.
— Вы что, закрылись уже?! Мне надо, очень!
Сторож прищурился: существо ответило ему неприятным, но женским голосом, и под рубашкой у него, кажется, была отнюдь не мужская грудь,
— Баба, что ли? А, один хрен; чего надо-то? Потом навестишь, утром приходи.
Рэй достала из заднего кармана брюк кошелек и протянула сторожу. Тот нерешительно взял, открыл, с сомнением посмотрел на странную посетительницу и, вынув несколько купюр, вернул кошелек Рэй, Ворота загрохотали, Рэй протиснулась в щель, не дождавшись, пока они откроются до конца.
— Кто это там? — удивился карточный напарник сторожа.
— Да психованная какая-то: приспичило ей в темноте по кладбищу гулять… И вообще, могла бы через сто метров через дырку в заборе пройти…
Рэй не была на кладбище давно, она уже не бежала, а медленно шла, не чувствуя холода. Ничего, кроме страха. И это был не страх темноты, не боязнь снова увидеть огненный столб и не страх перед покойниками: она боялась увидеть то, что приехала увидеть.
Ограда, еще ограда, поворот, ограда… Бесконечные ограды.,.
В детстве Рэй ездила с мамой на экскурсию в Прибалтику и видела там кладбище. Оно было совсем не похоже на русские погосты: в сосновом бору стояли, будто прогуливались, ухоженные памятники, и не было никаких оград. Тогда Рэй удивилась этому, а мама объяснила, что, наверное, у католиков так принято, а у нас так быть не может хотя бы потому, что без оградки утащат и цветы и сами памятники.
Рэй замялась, прежде чем повернуться. Она подошла вплотную к чугунным прутьям, взялась за них руками и медленно подняла глаза… Ноги стали ватными, а по спине побежали мурашки: рядом с маминым памятником стоял еще один, поменьше, совершенно черный, посередине белела овальная фотография, Рэй с упавшим сердцем открыла калитку и вошла. Она наклонилась перед памятником и… встретилась с собственным лицом: фото на паспорт пятилетней давности. Имя, отчество, фамилия. Дата рождения и дата смерти. Получилось, что она умерла вчера…
Свет фонаря, оставшегося где-то позади, создал другую — темную Рэй, покорно ложащуюся на свой памятник. Заметив эту тень, Рэй содрогнулась и почувствовала озноб. Полумрак кладбищенских деревьев, могилы, упрекающие жизнь за ее беспечность, тень — все на несколько сот метров вокруг было сильнее одного стучащего сердца – маленького, с кулак Рэй – и все отвергало его. Страх и отчаяние сдавили горло, ей захотелось плакать, по не было слез. Она закрыла лицо руками и попыталась справиться с дыханием: пусть вдохи будут короче, а выдохи длиннее, чтобы меньше вдыхать этого страшного тленного воздуха и скорее выпустить эту уже не умещающуюся в груди боль. Мертвецы — не страшно, думала Рэй, страшно то, что для вечности человек — это бездомная душа и кости, гниющие в земле. И, конечно, душа, если она имеет на это право, никогда не прилетает на кладбище, потому что само существование могилы оскорбляет и ее, живую, и ту вспышку жизни, которую ей посчастливилось пережить в теле. Тело болело вместе с душой, тело испытывало желания, тело стремилось быть с кем-то рядом, иногда спорило с душой.,. Но едва она покинула его, как и тело стало таять, исчезать — возможно, рядом с телом того человека, которого при жизни ненавидела душа. Два ненавистных Друг Другу тела могут смешаться и стать удобрением для одного дерева. А две покинувшие оба тела души будут смотреть на это дерево с небес и принимать как данность: ничего не важно после смерти, она примиряет всех, венчая пустотой. Жизнь разделяет, смерть соединяет, а сильнее их обеих разве что любовь, которая соединяет души при жизни и мучает раздельностью тел, «А счастья не было и нет, хоть в этом больше нет сомнений…» Рэй всегда любила Блока. Он тоже был странным, несчастным, злоупотреблял опиумом и бежал от любви. Слезы обожгли ладони: Рэй стало мучительно жаль себя; вот она жила после Блока, фактически пережила его, а кто-то переживет ее, и души объединит небо, а тела — земля. Все уходят, так и не поняв, зачем они приходили. Самым глупым в смерти для Рэй казалось, что она, Лена, может умереть, так и не поняв, не полюбив себя, не заслужив чьей-то любви, не полюбив кого-то другого. Нельзя любить кого-то, не научившись любить себя… Здесь, в земле, она будет вместе с теми, кто презирал ее; она не была нужна живой, а мертвыми не нужен никто. Другие ушедшие наверняка были понятны себе, а она? Она даже не понимает, какого пола существо живет в ее не особенно привлекательном женском теле, не понимает, жива ли она вообще, если смотрит на собственное надгробье со стороны, если заслужила такую ненависть. Кто большее чудовище: она или ее отец, установивший этот могильный памятник?.. Рэй почувствовала, как слабеют ноги, но от мысли, что, опустившись на корточки, она станет ближе к земле — страшной, холодной, чужой, — ей стало жутко. В этот момент она была заблудившейся в чужом дворе пятилетней девочкой, мечтающей, чтобы добрый волшебник за одно мгновение перенес ее домой. А где он, ее дом? Приступом подошли новые слезы, но тут Рэп почувствовала, что кто-то коснулся ее ноги. Она в ужасе отняла от лица руки и увидела быструю тень, скользнувшую мимо нее: уже по ту сторону ограды довольно уверенно вышагивал котенок, Рэй быстро открыли калитку и вышла за ним. Он должен вывести ее отсюда, он знает дорогу, и он не боится. Котенок увидел на асфальте пожухлый бесформенный листик, насторожился, толкнул его лапкой и тут же прыгнул на него — листик не сопротивлялся. Котенок поохотился еще несколько секунд, потом поежился от холода и требовательно мяукнул. Рэй подошла ближе и взяла его на руки. Они шли вместе, так было не страшно— поворот, еще поворот; котенок урчал, а Рэй прислушивалась, как под правой ладонью ровно и быстро отстукивал крошечный живой двигатель: два сердца против всей этой кладбищенской тишины уже сила. Щеки высохли от слез, но были совершенно ледяными, Рой снова вышагивала с пятки на носок, бросая вызов миру, и четко понимала, что больше никогда не пройдет этой дорогой, не вернется на это кладбище, — мама простит, она ведь и сама, конечно, не здесь.