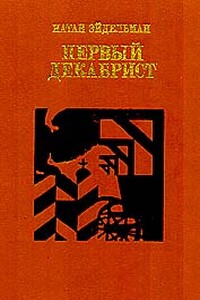Вьеварум | страница 45
"Коллежский асессор Иван Иванович Пущин по приговору верховного уголовного суда приговорен к смертной казни. По высочайшей конфирмации осужден к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу вечно. Высочайшим же указом 22 августа 1826 года повелено оставить его в работе 20 лет, а потом обратить на поселение в Сибири".
Эти строки читают в Михайловском, Петербурге, Москве… Потрясенный Горчаков торопится прочь из России — к своему посольству в Лондоне. Но нет покоя: вчера он пытался переправить за границу Пущина, а сегодня ему приказано свыше добиться возвращения на родину эмигранта-декабриста Николая Тургенева, заочно приговоренного к смерти. Горчаков на службе: едет в Эдинбург уговаривать самого Тургенева, выясняет у английских властей возможность выдачи государственного преступника.
Ничего из этого не вышло, хотя в Россию приполз слух, будто Тургенева схватили и везут.
Пушкина же вдруг выпускают из ссылки, он возвращается в Москву, снова едет, уже вольный, в свое Михайловское, близ Пскова, опрокидывается, ушибается, лежит в номере, вспоминает:
Черновые строки стихотворения, обращенного к Пущину, — "Мой первый друг, мой друг бесценный"… Стихотворение было закончено в псковской гостинице, ровно через год (без одного дня) после восстания — 13 декабря 1826 года.
Прекрасные строки о "наших" и "друзьях", может быть, оттого исчезли, что в стихах, называющих государственного преступника первого разряда "мой первый друг, мой друг бесценный", не следует называть еще чьи-либо имена?
В тот день Пущин был недалеко, всего триста с небольшим верст, — в Шлиссельбургской крепости, откуда его повезут на восток, за семь тысяч верст, только следующей осенью.
"В самый день моего приезда в Читу, — вспомнит он, — призывает меня к частоколу Александра Григорьевна Муравьева (жена Никиты Муравьева-"Вьеварума") и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:
Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнанье. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось"