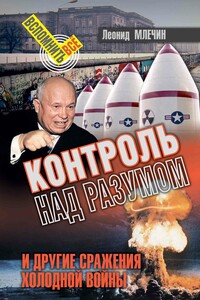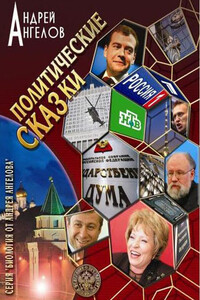Газета Завтра 284 (19 1999) | страница 29
Увожу взгляд, как от цыганки. А она вдруг окликает в спину:
— Не пьешь, не куришь, так хоть бы семечек, Саша, купил.
Нина Шелестова! Только что думал о ней. Одна она теперь у меня здесь подруга детства осталась в живых. Друзья давно на том свете. Голос знакомый, но нет уже в нем того грудного, игривого курлыканья, совсем не чувствуется обольстительной мощи — только громкость базарная. Осенью померла ее мать — отчаянная фронтовичка, получавшая по ранению большой пенсион, кормившая дочку с зятем и внуками. Теперь Нина покупает на станции у проводниц сырых семечек, жарит их и назначает прибавочную стоимость, имея во всеобщем российском рынке место свое законное у этого столба, ободранного грузовиками.
— Не пьешь, не куришь, как тебя такого еще не убили до сих пор.
— Сам удивляюсь, Нина.
Шуточки у нее самого крутого шоферского посола. Шоферила на грузовиках почти всю жизнь. Перед пенсией пошла в доярки, чтобы по максимуму заработать. А теперь, выходит, зря ломалась. Хоть максимум, хоть минимум — все равно копейки. И к столбу!
— Вот поехал, Нина, картошку садить.
При упоминании о картошке она делается озабоченной, мыслящей женщиной. Тут и бабье сочувствие в ней прорезывается:
— Как же ты в кроссовках-то до деревни?
Объясняю, что я на машине, на полноприводной, изготовления ульяновского автозавода.
Нина сокрушается:
— Чтобы тебе утром тут появиться, ты бы тогда моего Витю свез. А он пешком ушел. Не знаю, как по грязи добрался.
А я, наоборот, доволен, что случай развел меня с ее ненаглядным Витей. Весьма пустой мужик, хоть и видный.
В последнее время народился такой тип в деревне — гордый внешне, в походке — стать, едва ли не величавость, хотя, по сути, это лишь благородная, неистребимая лень хорошо и регулярно пьющего куряки и матерщинника. Талантливо стилизуется такими мужиками и немногословная мудрость отцов, дедов, хотя за душой нет ни большевизма, ни православия. Он бабу бьет, велит ей торговать у столба, собственную пенсию пускает на пиры. Но с виду — хозяин...
На своем “уазе” сразу за городком съехал на проселок и трактором пошел по свежим грязям. Главное было не просесть в колеи, оставленные "кировцами". Через час уже показалась поклонная сосна — растущая от середины под прямым углом над дорогой. По твердому песчаному косогору влетел в деревню. Пять домов, черные, из земли взятые и уходящие теперь обратно в землю, и чернотой своей, гнилостью на землю похожие, стоят вкривь и вкось. Только шифер на крышах белеет да наличники на окнах Егора Васильевича. Вот и сам он торопится, хромает, подбитый под Кенигсбергом. Трость вперед тянет, как гаишник жезл. Тоже останавливает. Трость у него самодельная, из ивовой плети в два пальца толщиной. Со временем крючок — рукоятка распрямилась. А Егор Васильевич, наоборот, скрючился.