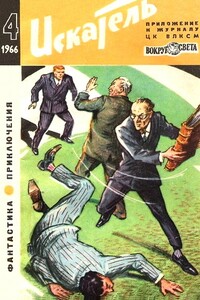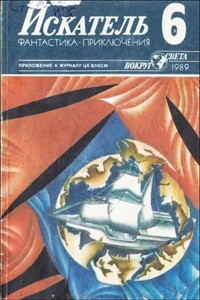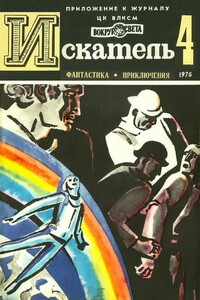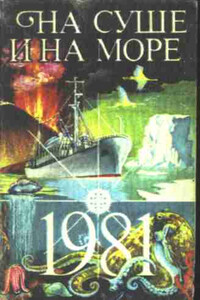Искатель, 1965 № 04 | страница 28
— Потом снимать…
— Твои сестрички снимут, — сказал Костя и встал.
Я увидел на суконке винты двух орденов.
— Подождите, наизнанку ведь!
Нет, он надел ее правильно. Это ордена так были привинчены — внутрь… Сел, опять вытер лоб и посмотрел на меня.
— Юнга… Чтоб не поцарапались, ясно?
«Юнга» произнес насмешливо — юнец, мол. Салага… Но мне ни капельки не стало обидно. Одетый по форме «три»: в темно-синюю суконку, на которой белели винты орденов, в черные брюки и хромовые ботинки, бледный, темноглазый, он сидел на рундуке, уже как-то отдельно от всего и не был похож на других. Не потому, что боцман и второй матрос были в робах, и не только потому, что он, Костя, уходил в госпиталь. Он вообще был особенный. Герой. А ко мне три раза обращался.
Я жалел, что он уходит.
— Новый человек прибыл, — сказал Костя. — Хоть бы спросили, как да что…
Боцман мельком, неприязненно глянул на меня и, думая о своем, ответил:
— Посачкуешь пока в госпитале. Обойдется.
— Ладно, поговорили.
Это проокал Костя…
Боцман покраснел, уставился на мой вещмешок.
— БЧ какая?
— БЧ — четыре, — ответил я. — Радист.
И опять увидел Костины глаза. Он смотрел на меня так, будто сам только сейчас понял, что «прибыл новый человек». Потом сказал:
— Смена! Ну, давайте… — Отвернулся и попросил матроса, который помогал ему одеваться: — Заведи, Андрей, на прощанье.
Тот быстро, словно ждал этой просьбы, достал откуда-то патефон, поставил его на стол, открыл. Зашипела пластинка:
Певец запинался, даже пропускал слова — пластинка была заигранная:
«Какая-то ария, — растерялся я. — Завели бы Утесова — «Раскинулось море широко»…» Казалось, что именно ария сбивает меня с толку: я эту музыку не знал и оттого чувствовал себя еще больше чужим. Музыка наполняла кубрик, а в днище шлепала вода, всплески были все то же, и так же пахло нагретым железом, но все уже изменилось, и я только понимал, что не был таким одиноким, когда смотрел на черные сопки, а потом спускался сюда по трапу.
Боцман стоял у стола, помаргивал белесыми ресницами. Матрос этот, Андрей, выпрямился за патефоном, будто аршин проглотил.
Костя сидел, опустив голову.
Я едва прикоснулся к их жизни, торчал здесь сам по себе, но Костя уходил, и получалось, что я уже не сам по себе, а «смена» — пришел на его место. Вот так — сразу! Бывает, приснится что-нибудь до того отчетливо, что начинаешь понимать: это неправдоподобно, это снится. Бывает и наяву — так все ясно, что не верится. Слишком быстро все произошло.