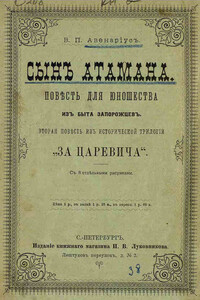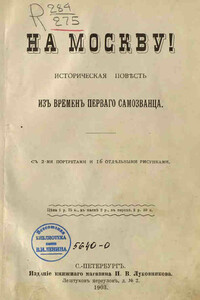Пущин в селе Михайловском | страница 13
— То есть ты обозвал его шулером? Понятно, что после этого он должен был тебя вызвать! Но ты мог ведь и отказаться.
— Чтобы прослыть за труса? Благодарю покорно. Зато, когда мы сошлись с ним на дистанции, я взял с собой полную фуражку черешен, и пока он в меня целился, я преспокойно ел мои черешни.[10]
— Лучший способ доказать свое презрение к противнику! Но сердце у тебя, признайся, все-таки екало?
— Ничуть. В минуту обиды я вспыхну как порох, а как дойдет до расплаты — я уже не волнуюсь.
— И он тебя не ранил?
— Нет. Рука, видно, дрогнула.
— А ты его?
— Я спросил только: "Довольны ли вы?" Он в ответ раскрыл мне объятья, а я — повернул к нему спину.
— Вот это так! Ну, а второй случай был у тебя с кем?
— Тоже с военным — с командиром егерского полка Старовым. В городском казино танцевали. Я дирижировал танцами и велел играть мазурку. Вдруг откуда ни возьмись — молоденький армейский офицерик и кричит музыкантам: "Кадриль!" Я повторяю: "Мазурку!" Он свое: "Кадриль!" А я, смеясь: "Мазурку!" Музыканты, хоть и полковые, послушались меня, как дирижера, и заиграли мазурку. Начальник офицерика, полковник Старов, подозвал его к себе и потребовал, чтобы тот призвал меня к ответу. Бедняга опешил: "Да как же-с, полковник, я пойду объясняться с ними? Я их совсем не знаю…" — "Не знаете? — оборвал его Старов. — Так я объяснюсь за вас". И, подойдя ко мне, он объявил, что я должен тотчас извиниться перед его подчиненным. Я, понятно, наотрез отказался, и на другое же утро мы стояли с ним у барьера. Но была сильная метель, нельзя было целиться хорошенько, и снег забивался в пистолеты. Оба мы дали по два промаха и отложили дело, пока не пройдет метель; а тем временем нас помирили.
— Опять тебя Бог спас! — сказал Пущин.
— Да, верно, я Ему еще нужен. Впрочем, дело это имело еще маленький эпилог. Старов участвовал в кампании Двенадцатого года и заслужил славу храброго рубаки. Поэтому примирение его со «штафиркой» возбудило в городе большие толки. Два дня спустя, играя в ресторане на бильярде, я своими ушами слышал, как бывшие тут же в бильярдной ом. Я подошел к ним и прямо объявил: "Как мы покончили со Огаревым, — это наше дело; но я уважаю Старова, и если вы, господа, позволите себе еще осуждать его в моем присутствии, то я приму это за личную обиду, и вы будете иметь дело уже со мною".
— И что же эти господа?
— Смутились и стушевались. В этого времени я слыл в городе отчаянным головорезом, — со смехом заключил Пушкин. — Да как же, помилуй: человек в архалуке, в бархатных шароварах, непричесанный, неприлизанный, гуляет по улице запанибрата с генералами и размахивает при этом железной дубинкой! А местным тузам — армянам и молдаванам — режет правду в глаза, да еще в стихах! Кто-то по поводу слова «бессарабский» скаламбурил даже на мой счет: "бес арапский". Но виноват ли я, скажи, что моей африканской натуре надо было перебеситься?