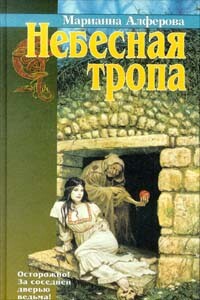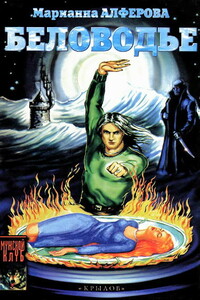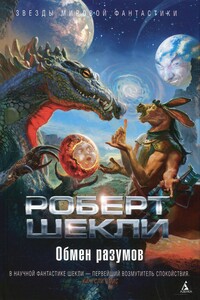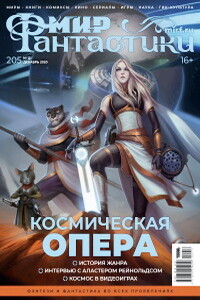Измерение «Ф» | страница 106
А ведь даже девочкам в семье необходим этот отцовский пример, отцовский импринтинг. Что же говорить о мальчиках? И тогда остается надеяться на одно — на искусство.
Говорят, у каждого времени свои песни. Детская литература тридцатых годов воспевала солдата. В воздухе того времени эхо минувших войн сталкивалось с предощущением грядущих, и потому, наверное, такая направленность была естественной. Из каждого мальчишки воспитать гайдаровского Мальчиша-Кибальчиша (это на уровне символа, в героико-романтической традиции). А если в традиции реалистической, то давайте вспомним прекрасный рассказ Леонида Пантелеева “Честное слово” и его героя, мальчика, которого в военной игре сделали часовым — и забыли о нем. Убежали. Но покинуть пост нельзя. И лишь слово старшего офицера освобождает его. Такой часовой был идеалом поколения, ибо из них вырастают настоящие солдаты…
Шестидесятые годы требовали иной песни, героем которой стал бы не солдат, а мужчина. Понятие более емкое, более объемное, ибо оно включает в себя и все солдатские качества, и многое сверх того. Из пантелеевского героя солдат вырастет наверняка. Но он может оказаться и солдафоном. Из крапивинских барабанщиков вырастут мужчины, которые наверняка станут и хорошими солдатами, но в солдафонов заведомо не превратятся никогда. Владислав Крапивин очень тонко уловил, какие песни нужны его времени, нашему времени. И какой этому времени нужен герой.
И здесь мы подходим к еще одному, третьему ключу. Крапивинский герой всегда социально, граждански, человечески активен. Это его имманентное свойство. Казалось бы, что уж тут нового — сколько об этой самой социальной активности понаписано! Но в том-то и дело, что не только в жизни, но и в литературе, как правило, она лишь декларировалась, эта активность. А на деле ее рекомендовалось проявлять “от сих до сих”. Если ты рабочий, инженер — что же, активно работай, делай свое дело; если ты солдат — активно выполняй поставленную командиром задачу… Ну и так далее. В соответствующих рамках, так сказать. А действительные масштабные задачи — их решать должно тому, кому их решать положено. И они это активно будут делать. А маленькому человечку нечего замахиваться на большие масштабы.
Крапивин берет дважды маленького человека. Дважды, потому что, во-первых, он мал еще ростом и возрастом, этот двенадцатилетний крапивинский герой. Почему именно двенадцатилетний? В повести “Вечный жемчуг”, заключительной части трилогии “В ночь большого прилива”, есть примечательный диалог: